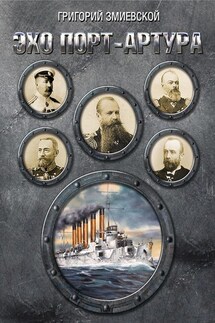Эхо Порт-Артура - страница 26
Интересно, что «Аврора» была направлена на Дальний Восток больше с дипломатической, чем с военной, миссией – защищать суверенные права России в тихоокеанских водах и раскланиваться с японскими «добрыми соседями» («эра Мэйдзи» тогда еще не наступила, и с японцами пока что можно было о чем-то договариваться). Капитан-лейтенант Иван Изыльметьев повел свой 44-пушечный фрегат вокруг Южной Америки, обогнул мыс Горн и в апреле 1854 г. бросил якорь в порту Кальяо (Перу). Здесь уже торчали два фрегата англо-французской эскадры, которые недвусмысленно намеревались либо навязать Изыльметьеву неравный бой по выходе из гавани Кальяо, либо задержать «Аврору» в порту на неопределенное время «до выяснения обстановки», т. е. захватить. Изыльметьев, таким образом, попал в ситуацию, весьма сходную с той, в которой оказался крейсер «Варяг» полвека спустя.
Однако он вышел из положения с исключительным мастерством, полностью посрамив «наследников Нельсона». Спустив семь шлюпок, он под прикрытием густого тумана сумел ночью отбуксировать фрегат с внутреннего на внешний рейд (кто знает, может быть, Изыльметьев в детстве внимательно наблюдал, как черный кот на белом снегу подкрадывается к птичкам на расстояние прыжка), поднял паруса и ушел в море. Что произносили друг другу поутру бравые союзники, английский адмирал Прайс и французский адмирал Депуант, можно представить – фрегат взял да и растворился! А когда мощная эскадра адмирала Прайса из 6 кораблей вошла в августе 1854 г. в Авачинскую бухту, она встретила дружеский привет в виде залпов «Авроры». Провал всех планов высадки десанта привел адмирала Прайса в такое смятение, что он покончил с собой.
За оборону Петропавловска Изыльметьев был произведен в капитаны 2-го ранга и награжден «Георгием» 4-й степени. Но это не было окончанием смелых походов «Авроры». Война-то продолжалась! И в 1855 г. Изыльметьев и его команда снова отличились в бою с английской эскадрой в бухте Де-Кастри (Амурский залив). Опять наш Иван опозорил «наследников Нельсона», за что был произведен уже в капитаны 1-го ранга.
Так что, кроме занятия Севастополя (французскими силами), англичанам нечем было похвастаться. Но и здесь викторианские стратеги не могли гордиться даже чужими успехами. Как подметил наш писатель и историк Валентин Пикуль, Луи-Наполеон вызвал гомерический хохот в Петербурге и всех дипломатических салонах Европы, пожаловав маршала Пелисье титулом герцога Малахова. Где ему, болезному, было знать, что знаменитый курган под Севастополем стал именоваться Малаховым в память об основателе дешевого кабака, открытого у подножия кургана неким Ваней-забулдыгой, большим любителем возлияний на лоне природы!
Осенью 1855 г. русские войска покинули Севастополь, но во всей России тогда можно было схлопотать по физиономии, сказав, что Севастополь пал. «Севастополь не пал! – доходчиво объясняли утирающему кровавые сопли. – Он лишь нами оставлен!». И при этом, безусловно, подразумевалось, что возвращение исконно русских крымских земель – всего лишь вопрос времени.
Но – сопли соплями, а условия Парижской конвенции, определившей устройство послевоенной Европы, были для России позорно-унизительными. Александр II, заняв трон батюшки, не перенесшего крымского позора, первым делом поставил вопрос о коренном пересмотре внешней политики. При этом ему пришлось преодолевать истерики достопочтенной матушки, вдовствующей императрицы Александры Федоровны, кричавшей: «Как ты собираешься управлять страной дураков и воров без верных слуг отца – Клейнмихелей и Нессельроде!» Александр, как известно, дал исторический ответ, показавший, что на престол пришел все-таки