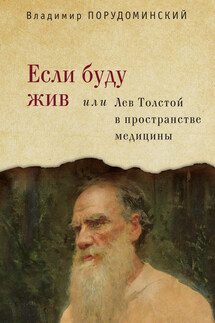Если буду жив, или Лев Толстой в пространстве медицины - страница 51
Но сам Толстой «петь тонким голосом» не умеет.
Духовный его перелом являет себя во всем – в образе жизни, в творчестве и отношении к творчеству, в желании изменить семейный уклад, в проповеди учения, которой он отдает много времени и сил. Толстой не устает повторять: не он, не Толстой, «сочинил» учение, которое он проповедует. На протяжении веков, тысячелетий даже, человечество в лице лучших своих представителей несло в душе мечту о братстве всех людей на земле. Все так, но немногие звали к этому с такой убежденной сосредоточенностью, как Толстой.
Зимой 1880 года он проводит несколько дней в Петербурге. Его новое умонастроение, конечно же, не остается незамеченным. Он, впрочем, и не считает нужным скрывать его, наоборот, всюду, где появляется, горячо, убежденно говорит о нем. Один из друзей сообщает ему вдогонку, после отъезда, что в столице все толкуют о его «обращении», понимая это «обращение» в духе чего-то противного разуму.
Вскоре во время празднеств, посвященных открытию памятника Пушкину в Москве, на которые Толстой не поехал, среди литераторов ходят упорные слухи, что он сошел с ума. Достоевский так и пишет жене из Москвы: «О Льве Толстом… Слышно, он совсем помешался».
Софья Андреевна, некоторые из ближних также считают стремление Льва Николаевича следовать своим убеждениям, да и самые убеждения, – «болезнью». Извещая брата о продолжении работы над религиозно-философскими сочинениями, Толстой, повторяя суждение домашних, пишет: «Я все так же предаюсь своему сумасшествию…»
В «Исповеди» он говорит: между прежней его жизнью (которой продолжают жить тысячи людей) и сумасшедшим домом нет никакой разницы. Теперь, когда он все дальше следует новым путем, разрабатывая и проповедуя учение, то же духовное отчуждение дома, в семье: «точно я один несумасшедший живу в доме сумасшедших».
У себя в зале слышит беседу домашних с гостями – записывает:
«Начали разговор. Вешать – надо, сечь – надо, бить по зубам без свидетелей и слабых – надо, народ как бы не взбунтовался – страшно. Но жидов бить – не худо. Потом вперемешку разговор о блуде – с удовольствием».
И – с новой строчки:
«Кто-нибудь сумасшедший – они или я…»
Задуманный им рассказ о человеке, который понял, что нельзя дальше жить по-прежнему, что надо жить по Евангелию, в братстве со всеми людьми, не основывая своей выгоды на нищете и горе других, и за это признан в своем кругу ненормальным, Толстой в рукописях называет то «Записками сумасшедшего», то «Записками несумасшедшего»…
Весной 1884 года, как раз в те дни, когда задумывается рассказ, наверно, и в связи с тем, что – задумывается, Толстой читает некоторые работы о душевных заболеваниях, более всего статьи в журнале «Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии», который издает его знакомый, профессор Харьковского университета по кафедре психиатрии и нервных болезней Павел Иванович Ковалевский. Это чтение по-своему высвечивает для него все то, что происходит в его личной, домашней жизни. В эту пору семейный разлад, раскол, связанный с его желанием жить не по-принятому, а в соответствии со своими убеждениями, становится очевиден. Именно в эту пору он помечает в дневнике, что «лопнула струна», соединявшая его с Софьей Андреевной, пишет об отсутствии любимой и любящей жены.
Он пишет о семейном разладе: «Как они не видят, что я не то что страдаю, а лишен жизни вот уже три года. Мне придана роль ворчливого старика, и я не могу в их глазах выйти из нее: прими я участие в их жизни – я отрекаюсь от истины, и они первые будут тыкать мне в глаза этим отречением. Смотри я, как теперь, грустно на их безумство – я ворчливый старик…»