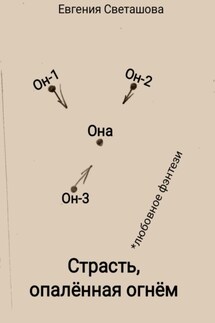Если завтра тебя не будет - страница 3
Её плечи и спину сотрясали рыдания, самих звуков рыданий, впрочем, слышно не было: при всей своей внешней хрупкости и даже беззащитности, она была (уж я-то это знал как никто!) по-настоящему сильной натурой, достаточно сильной, чтобы даже сейчас не дать волю чувствам, не зайтись в истошно-заполошно-исступлённом крике, какой вырвался из её груди, когда она, зайдя в мою комнату-кабинет, обнаружила меня, привалившегося на диванчике, мёртвым; но там она не сдерживалась, потому что была одна, осталась одна…
Её поддерживали под руки наши взрослые дети, сын и дочь, по их щекам катились слёзы, мокрые дорожки блестели на солнце. Им сострадали – я видел это по сочувственным взглядам, что то и дело бросали на них присутствующие. Родня, друзья, знакомые… Из родителей – присутствовал только один Ольгин отец, старенький, усохший, кожа да кости, но по-прежнему первоклассно прямой, как та трость, на какую он сейчас опирался, и, как и раньше, как всегда, с сурово-властным – отпечаток прежней руководящей работы – выражением на тонком, бледном лице, сейчас ещё более костисто заострившемся, словно гипсово-окаменевшем в своей суровой решимости. Один – потому что только он один из всех наших родителей и мог присутствовать, остальные уж ушли в мир иной; первой, совсем еще молодой, в сорок восемь, меньше чем через два года после нашей свадьбы, умерла мама Ольги; затем, в свой срок, за одним другая, с разницей в год, ушли мои отец и мать; и хорошо (хоть звучит диковато, ибо говорить так грешно), что ушли, что не дожили до этого дня, потому что когда дети хоронят родителей, – это, как ни тяжко и горестно, но всё же сообразно естественному природному устроению, противоестественно – когда наоборот, не дай бог никому…
К могиле, – чуть похоронная команда, опустив гроб, отступила в сторонку, – потянулись цепочкой, тесно её обступая, провожающие.
Гулкой, раскатистой дробью, будто о прощании возвестил отряд барабанщиков, застучали по крышке гроба горсти земли.
Я заметил, как, бросив последнюю, третью, горсточку, она, распрямляясь, откачнулась и неловко попятилась назад и чуть в сторону, частыми, неверными шажками, – и не устояла бы, но дети и ещё чьи-то участливые руки вовремя подхватили её, усадили на спешно кем-то подставленный стульчик, поднесли к носу пузырёчек с нашатырём, окропили, откинув вуальку, водою лицо. Оно, отрешённое лицо её, выбелилось известково, глаза смотрели перед собой невидящим взглядом; прикрывая их и опуская вуальку, она что-то шептала бессильно… И по её, шевелящимся почти беззвучно, губам я прочитал, не сразу, не с самого начала, но распознал едва угадывающийся, сдавленный, обрывистый шепоток: «…родной мой… как же я теперь… ты же знаешь… я не могу без тебя, не могу… не могу-у!..»
И от этих слов и переполнивших меня в этот момент чувств огромной любви и такой же огромной, невыносимой боли, смешанной с острым чувством вины, и тоже огромной, моё (несуществующее!) сердце – мне почудилось, я ощутил это физически! – словно бы разорвалось снова, разорвалось, разлетелось, рассыпалось и разбилось вдребезги, – как если бы оно было и впрямь из тончайших хрусталя или стекла! – на осколки и мелкие осколочки, а эти осколки-осколочки затем измельчились ещё, и ещё, истёрлись в порошок, до кладбищенской пыли и праха, распылились и рассеялись, уносимые ветром, взносились ввысь, уже незримые, лишь просверкивали на солнце одинокими, прощальными блестинками-искорками, исчезая в беспредельной пустынности осиянного Космоса…