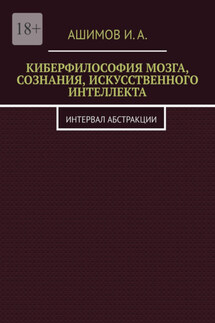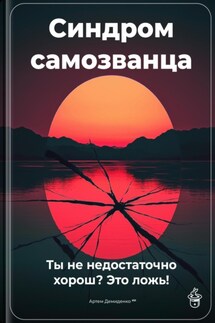Этические кредо трансплантации органов. Концепты и комментарии - страница 10
В настоящее время, спрос на донорские органы и ткани значительно превышает предложение. Согласно сводным данным, в мире проводится ежегодно около 100 тыс. пересадок ЖВО. По некоторым оценкам, лишь 20—30% очередников доживают до операции по пересадке органа [302]. Вопрос же добровольного согласия на изъятие ЖВО у B-DD, N-H-BD, а также их родных и близких для спасения обреченных больных пока не решается. «В этом заключается трагизм современной социокультурной ситуации во многих развивающихся странах мира», – считают И.А.Ашимов и соавт. (2009) [22].
На наш взгляд, примечательным является позитивная эволюция религии к запросам трансплантационной практики. В частности, христианская и мусульманская мораль считает совершенно недопустимым нарушение свободы человека: «Добровольное прижизненное согласие донора является условием правомерности и нравственной приемлемости изъятие органа или ткани. В случае, если волеизъявление ПД неизвестно врачам, они должны выяснить волю умирающего или умершего человека, обратившись при необходимости к его родственникам», – гласит в соответствующей христианской энциклике и мусульманской фатве [22].
Следует сделать такое допущение, что, даже не думая о смысле смерти, отгоняя саму мысль о нем, родственники и близкие умершего действуют в условиях выбора так, как если бы они учитывали в своих действиях этот тщательно гонимый Смысл. Именно от коллективного и индивидуального осмысления смысла смерти (не только своего, но и родных, близких и вообще человека) зависит, в конечном счете, стратегия поведения человека в пользу того, чтобы пожертвовать органами умершего в благородных целях спасения жизни другому человеку [331].
В целом, приобретает особый смысл прогнозирования процесса решения вопроса об органном донорстве, в том числе и в нашей стране. И, если говорить всерьез о степени подготовленности современного общества к восприятию требований трансплантационной практики, а именно использование ЖВО ex mortuo, то следует признать, что, безусловно, наступает время пересмотра декларативного гуманизма в пользу выдвижения и укоренения аргументов для дачи согласия на изъятие ЖВО человека после его кончины для целей пересадки их безнадежно тяжелому больному [338].
Имеется необходимость разработки правового предписания о согласии донора. Причем, несмотря на то, что, с точки зрения охраны личных прав, необходимо признать за донором право на части его собственного тела [349]. По данному вопросу при трансплантациях ЖВО ex mortuo часто возникают большие противоречия между правом и медициной. Право должно урегулировать также вопрос о том, какие правомочия принадлежат родственникам умершего в принятии решения об изъятии донорского ЖВО [301].
В результате опросов, проведенных в США и Канаде, было установлено, что количество реально имеющихся донорских ЖВО составляет лишь небольшой процент от требуемого, хотя результаты многочисленных статистических анализов говорят о том, что более 60% опрошенных не против изъятия у них ЖВО после смерти для пересадки нуждающимся реципиентам [344]. На деле, однако, менее половины из них готовы подтвердить это решение документально.
Большинство опрошенных родственников соглашаются на изъятие органов после констатации смерти своего близкого в результате «смерти мозга», вот почему, не менее 60—85% B-DD используют для получения трансплантатов, – пишет И.А.Ашимов, Ж.И.Ашимов (2009) [22]. Как отмечалось выше, современная трансплантационная медицина реально должна работать на трупном материале, независимо от B-DD, N-H-BD. Во многих государствах уже ратифицирован «Единый закон об определении смерти» (ЕЗОС), в котором сказано: «человек, который находится в состоянии необратимой остановки функций кровообращения и дыхания или необратимого прекращения всех функций головного мозга, включая его стволовую часть, является мертвым» [300].