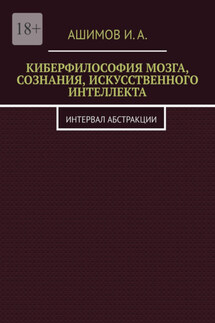Этические кредо трансплантации органов. Концепты и комментарии - страница 9
Как отмечали В.Л.Гончаренко и соавт. (1998), В. И. Шумаков (1995), Kasahara A. et all. (1998), уже до 2000 года в развитых странах, так называемые «листы ожидания» были огромны. В частности, в США и в Великобритании лишь 10% тяжелых больных имели шанс дождаться трансплантации соответствующих ЖВО. Об этом писали Жаркович Г. и соавт. (1998), Grellier L. еt all. (1995), Davies S., et all. (1992), Brechot C., (1996) [144]. За прошедшие годы с тех пор, разумеется, ситуация обострилась еще больше. Таким образом, во всем мире число больных, нуждающихся в пересадке ЖВО, постоянно растет. Пересадка ЖВО ex mortuo помимо чисто научных и клинических аспектов поднимает ряд фундаментальных морально-этических проблем, в том числе касающиеся отношения человека к своему телу.
В настоящее время, предметом широких обсуждений ставятся такие, казалось бы, на первый взгляд необычные вопросы, как право индивидуума на свое тело после смерти и право на изъятый орган [149]. Субъектами, в пользу которых может отчуждаться это право с момента изъятия органа из тела B-DD, N-H-BD, могут являться конкретные лица – родственники донора, врачи, осуществлявшие пересадку, медицинские структуры, задействованные в процессе получения органа и его пересадки [22]. Жизнь и практика показывает, что особенно много споров возникает относительно того, как должно устанавливаться согласие на изъятие ЖВО для пересадки.
Следует отметить, что в разных странах существуют разные системы установления согласия. Одна из них основывается на так называемой «принцип презумпции согласия» [161]. Опыт показывает, в странах, где принят этот принцип, получение донорских ЖВО облегчено по сравнению со странами, опирающимся на «принцип презумпции несогласия» [245]. Недостаток системы, базирующейся на «презумпции согласия», заключается в том, что люди, неосведомленные о существовании такой нормы, автоматически попадают в разряд согласных. Чтобы избежать этого, отказ выступать в качестве донора фиксируется в особом документе – «карточке не донора», которую человек должен постоянно иметь при себе [190].
В связи с такой ситуацией возникает неопределенность такого характера. Поскольку законодательство не обязывает медиков устанавливать контакт с родственниками умершего и выяснять их мнение относительно изъятия ЖВО, то фактически родственникам не представляется возможности принять участие в решении вопроса [224]. В этой ситуации, к сожалению, сами медики оказываются в щекотливом положении, ибо, родственники и близкие, узнавшие об изъятии ЖВО ex mortuo без их согласия, могут привлечь медиков к судебной ответственности за нарушение прав B-DD, N-H-BD [22].
Следует подчеркнуть, что во времена резких трансформаций взглядов людей и общества возникла опасная тенденция, отдающая приоритет «частному интересу и пользе» перед «универсальным благом», которые наполнены следующим конкретным содержанием: понятие «частный интерес» представляет заинтересованность реципиента и трансплантолога в получении донорского ЖВО, а понятие «универсальное благо» – сохранение такого условия человеческих взаимоотношений, как «смерть служит продлению жизни». Между тем, есть место сомнению в безупречной нравственности такого аргументационного подхода [234].
Допускают два варианта или формы возможных изменений морали и этики: а) отрицание моральных норм; б) соглашательство с новыми приоритетами [271]. Если первое понятно, то второе нуждается в следующем пояснении: видоизменение морального сознания сопровождается с появлением новых аргументационных установок, изменения стиля аргументации. В указанном аспекте, «принцип презумпции согласия», отраженный в Законе КР «О трансплантации органов и/или тканей человека», по мнению И.А.Ашимова и соавт. (2009) есть проявление «частного интереса», но завуалированная благим намерением сделать доброе в отношении другого субъекта [22].