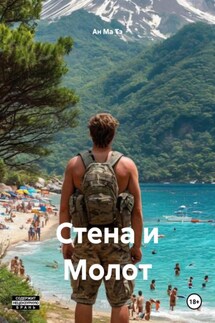Этика Канта - страница 4
Спор об источниках познания вращается вокруг понятия бытия, понятия реальности. На языке Платона можно было бы сказать: проблема субстанции (οὐσία) – это проблема познания (ἐπιστήμη); и отнюдь не в глубочайшей и последней основе вопрос о связи или даже тождестве последнего с восприятием (αἴσθησις).
Применительно к этике вопрос звучал бы так: идея (ἰδέα), и только она, есть οὐσία, образы которой мы обычно называем ὄντα: следует ли и идею блага (ἰδέα τού ἀγαθού) мыслить как οὐσία, хотя на земле видны лишь ее тусклые отражения?
Платоновское решение содержится в загадочных словах: истина (ἀλήθεια) идеи блага лежит по ту сторону (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας); и все же, поскольку она есть идея и поскольку она как идея – ведь существует восхождение от бытия к истине – «превосходит достоинством и силой» (δυνάμει καί πρεσβεία ὑπερέχουσα), она есть высшее, подлиннейшее бытие. То, как точнее определить эту гиперболу, мы и ставим здесь своей задачей.
Для Аристотеля идея была безумием. Проблема его этики далека, как отделенная веками, от вопроса о реальности идеи блага. Его мир нравственного полностью лежит в горизонте его опыта. Там уже нет общечеловеческого требования, перед которым человеческое понимание чувствует себя едва ли способным устоять и все же вынуждено дать ему услышать себя, исполнить его. Задача этики стала иной. При всем признании точности, основанной на знании людей и мира, которая сделала морально-философские рассуждения Аристотеля полезной эмпирической опорой Средневековья, все же следует понимать, что он отбросил этическую проблему назад, за платоновского Сократа. Ведь он сам признает, что предпринял свои этические исследования не «ради теории»: «Мы ведем исследование не для того, чтобы знать, что такое добродетель (τί ἐστιν), а чтобы стать добрыми, иначе от нее не было бы никакой пользы» (ἐπεί οὐδὲν ἂν ὄφελος αὐτῆς) [3]. Для Аристотеля этика – это дисциплина прагматической психологии; на его языке – политики (πολιτική τις οὖσα) [4]. И с задачей изменился объект: у Платона это было благо, у Аристотеля – добрый человек; или, вернее, блага доброго человека.
Этот столь предметный состав этики сохранился, переданный угасающей древностью новому времени.
Старая ошибка, укорененная в одной из тенденций Просвещения, состоит в том, что Спиноза заново обосновал этику. Однако его заслуги перед этикой заключаются главным образом в описании нравственных аффектов и представлений, направляемом его монизмом. Вопрос о реальности нравственной идеи затрагивается им лишь в той мере, в какой он мог возникнуть у догматика, которому достаточно, для которого высшее – указать место модусу, оставшемуся для него во вселенной единой, вечной субстанции. Всегда лишь в «свете вечного» явление нравственного в человеческом мышлении, в человеческом чувстве, в человеческом действии, в которое исключительно и всецело вкладывается гарантия нравственного. Но вопрос не ставится: если материальный мир, хотя и является лишь атрибутом, но как таковой – равноправным выражением субстанции, то не означает ли аналогичным образом и нравственное бытие, которое, подобно тому, как материя проявляется в телах, также лишь является в человеческом хотении, в действии, как и в страдании. Пантеистический монизм должен был исключить возможность самостоятельной и особой значимости нравственного.
И все же, как бы просвещенный ум ни противился этому, только это и есть вопрос этики: возможность иного рода реальности, чем та, которую природа в силу своей научной значимости в состоянии представить.