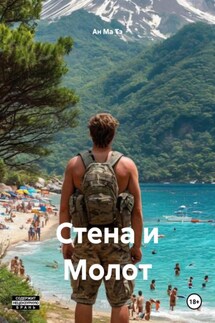Этика Канта - страница 6
В этой неизбежной последовательности и заключается настоящая опасность того заманчивого взгляда, будто кантовская этика учит «вынужден», содержанию безусловных законов принуждения. «Вынужден» не отпугивает, ибо различие между «должен» и гражданскими установлениями, как, впрочем, и самим Декалогом, к которому Шопенгауэр так усердно пытается свести кантовскую мораль, вряд ли может быть затемнено. Но то, что содержание, к которому обязывают, если и не устарело, то по крайней мере избито и потому не несёт на себе печати своеобразной ценности самой по себе; и что это тождественное содержание – единственное для всякой этики, – вот что уничтожает значение научной задачи; вот что создаёт видимость бесплодного, хотя и добросовестного усилия.
Кажется, есть выход, позволяющий избежать этого вывода, который затрагивает всякую этику. Хотя, можно подумать, содержание нравственного в целом остаётся тем же, всё же имеет значение и создаёт разницу, коренится ли основа этого неизменного ценного в глубине человеческой природы, в потусторонних определениях или же в высшем единстве с природным. И именно в этом и состоит подлинная задача этики: расшифровать основу нравственного в человеческой душе из хаоса её стремлений. Даже в этой расшифровке этики, возможно, мало отличаются друг от друга; Шопенгауэр, во всяком случае, ссылается в подтверждение своего открытия, что сострадание – основной мотив нравственного, на ряд мыслителей из самых отдалённых культурных эпох. Но здесь тонкое различие в толковании душевного процесса могло бы оправдать аппарат специального исследования, и в этом, собственно, и заключается самостоятельность этических систем.
Несомненно, эта точка зрения создаёт различие, а возможно, даже ценное основание для классификации. Или, может быть, безразлично, помещает ли Платон основу нравственного в реальность, независимую от человеческих индивидов, прочность которой он иллюстрирует превосходной степенью – как высшее знание (μέγιστον μάθημα), – или же её ищут в сплетении человеческих чувств и развивают из души человека, в чём многие видят главную заслугу Аристотеля?
И уж конечно, не безразлично, стремится ли кто-то раскрыть основание нравственного в так называемой сущности человека или же относит его к непостижимому в своём происхождении установлению природы, чьи регулярные особенности, чьи правила и следует признать нравственными законами. На этом различии Гербарт основывает право связать свою практическую философию с эстетикой. Подобно тому как теория музыки, в малой степени представленная в генерал-басе, является «единственным образцом подлинной эстетики» [4], так и для него она же служит образцом теории практического разума.
Впрочем, оставим здесь нерассмотренным, как удаётся этому гербартовскому исследованию оправдать включение этики в учение о вкусе и какое значение для нашего вопроса имеет различение, согласно которому для самого суждения вкуса, которое должна изображать практическая философия, совершенно безразлично объяснение, «которое, так сказать, раскрывает механизм суждения» [5]. Даже если мы признаем отличие этой задачи от других трактовок этической проблемы, всё же следует возразить, что и эта этика, поскольку она описывает воление, сопровождаемое непроизвольным одобрением или неудовольствием, в этом описании чистых суждений вкуса, во-первых, даёт лишь описание душевных событий, душевных актов; а во-вторых, такое включение намеренно устраняет своеобразие этического суждения.