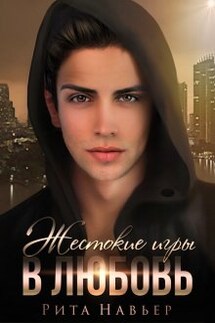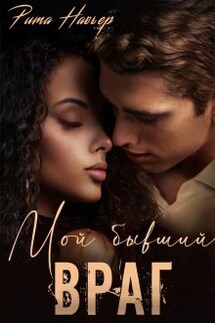Это лишь игра - страница 66
– Пьешь?
Она трясет головой.
– Нет. Раньше бывало… по праздникам, ну как все… А сейчас нет.
Затем снова повисает пауза, на этот раз долгая и неловкая. Потому что вижу – мать еще что-то хочет сказать, но то ли сомневается, то ли стесняется.
– Тебе от меня что-то нужно? – спрашиваю в лоб. Потому что хочу уже скорее уйти отсюда, от нее, от ее запаха, от этого бессмысленного разговора.
– Мне? От тебя? – пугается она и трясет головой. – Что ты! Нет, конечно. Я просто хотела тебя увидеть, сыночек… поговорить с тобой, вымолить прощение… хотя бы попробовать, пока не поздно…
Она заглядывает мне в глаза с видом побитой собаки, и ощущение брезгливости множится, накатывает вместе с тошнотой. Тем не менее заставляю себя остаться еще ненадолго и даже задаю очередной вопрос.
– Что значит – пока не поздно? Ты второй раз уже это говоришь.
– Ах да… ну, это так… Просто мало ли… всякое бывает… – юлит она, но я вижу, что попал в точку. Именно это ее терзает. Точнее, ее терзают сомнения, говорить об этом или нет. Она больна? Умирает? Поэтому такой вид? И запах…
– Что у тебя? – спрашиваю без экивоков. Мы и так сидим здесь почти полчаса. – Туберкулез? Онкология? Что?
Она снова пугается. Таращится на меня во все глаза и нервно сглатывает.
– Как ты…? – затем опускает голову, подпирает лоб рукой так, что ладонью закрывает лицо, как козырьком.
Так и не поднимая головы, она тихо произносит:
– Да, ты прав. Я не хотела об этом говорить. Зачем тебе это знать? Я хотела просто увидеться с тобой и попросить прощения.
Наверное, мне все же ее жаль. Только жалость к ней совсем другая, чем то, что я испытывал к Третьяковой. Там в груди ныло до боли, а тут неприятное, тягостное ощущение, смешанное всё с той же брезгливостью. Унижающее чувство. Впрочем, любая жалость в какой-то степени унижает.
Я молчу, не знаю, что еще ей сказать. Смотрю на часы, затем – в окно. Василий как всегда на месте, ждет. Сейчас попрощаюсь и пойду.
Мать тут же начинает суетиться.
– Герман, сыночек, тебе уже, наверное, пора? Дела всякие, да? А я тут тебя задерживаю… Но можно я хотя бы буду приходить иногда к школе… смотреть на тебя… хотя бы издали?
– Да ни к чему это, – отвечаю ей откровенно. Помедлив, спрашиваю: – Лучше скажи, чем ты больна?
– Да забудь.
– Просто скажи и всё.
Она снова мнется в нерешительности. Потом достает из пошарпанной сумки сложенный вчетверо листок, кладет на столешницу. Не глядя на меня, придвигает.
Мне не хочется даже прикасаться к ее листку, но все же, пересилив себя, я беру и разворачиваю. Это выписка. Из местного онкоцентра. Бегло пробегаюсь глазами: анализы, основной диагноз… Особо не вчитываясь, возвращаю обратно.
– И что, разве нет лечения? Операции?
Она жмет плечами.
– Это всё деньги и немалые. А я… сам видишь, как живу.
– Обратись к отцу, – советую ей самое очевидное, но она вздрагивает, как от удара, и испуганно частит:
– Нет, нет, что ты! Ни в коем случае… И ты, ради бога, ничего ему не говори!
– Почему?
Отец, конечно, далёк от милосердия, но и она ему не совсем чужая.
– Он – страшный человек. Я понимаю, Герман, он – твой отец. Он тебя вырастил и воспитал, но ты даже не представляешь, на что он способен. Какой это монстр. В тот день… ну, когда с тобой случилась беда… он избил меня… руками, ногами… и вышвырнул из дома в чем была… в разодранном платье – он его порвал, пока бил… босиком… в дождь, в грязь… Без денег и документов… Потом его люди нагнали меня по дороге, запихнули в машину и увезли за город… по его приказу. Что они там вытворяли… не хочу даже вспоминать… Потом выбросили возле какой-то деревни, как мусор. И передали его слова, что если я вернусь в город, то со мной будет то же самое, что и с… тем мужчиной… его водителем, с которым…