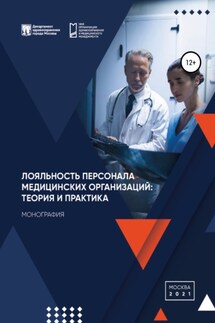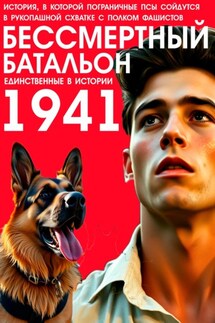Этюды и смыслы. Опыт критической мысли - страница 4
И все эти воспоминания из жизни лирического героя и Постума «…Вот и прожили мы больше половины…», «…Помнишь, Постум, у наместника сестрица…» – все явления прошлого бытия – это умиранье, и воскрешает прошлое цветенье, цветенье в памяти сюжетов бытия.
Наслоение образов настоящего и прошлого в стихах Бродского имеет структуру коробочки: здесь и тревожащее душу памятью о милых сердцу событиях, и картины настоящего: «…Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом…». И сам этот экскурс лирического героя и выбранных им для беседы явлений прошлого бытия, похоже на букет, поражающий разнообразием, как букет из прогулки по горам. А напутствие Постуму, куда ему поехать и кому что отдать – не что иное как продолжение начавшейся мозаики, начатой в жизни, и продолжающейся после ее окончания, когда лирический герой «…долг свой давний вычитанию заплатит…». Это факт обозначения себя после смерти, какой не может позволить себе стрекоза, распадаясь на фрагменты оболочки.
Жизнь в образе стрекозы в стихотворении Льва Дановского «Подражание Тютчеву»:
Подражание Тютчеву
На озере закат. Блистает стрекоза,
И немощная ночь восходит на востоке.
И порсканье плотвы среди густой осоки
Перерастает в шум. И глохнет полоса
На западе, сменив малиновый на медный,
И небо надо мной приобретает лик
Того, Кто дорожит и этой тварью бедной,
Кто к жалобам сверчка и муравья привык.
Кто с нами говорит на языке зарницы,
Чтоб узнавали мы тот час предгрозовой,
Когда летит листва, и умолкают птицы,
И шелестит земля испуганной травой.
И так уже темно, что листья у кувшинок
Сливаются с водой. И ветер теребит
Прибрежные кусты, и дерево, как инок,
Смиренно и черно у заводи стоит.
А небо надо мной торжественней и выше.
Так что же наша речь? – Чудесный чернозем.
И стыдно сожалеть, что небо не услышит,
Когда его слова мы вслух произнесем.
Торжество жизни через выражение красоты природы и блистание стрекозы на закате, – это жизнь в ее прекраснейших проявлениях. Здесь речь названа «чудесным черноземом» – оправдание речи как смыслообразующей константы, постоянной величины в ряду изменяющихся величин, зёрна для продолжения жизни.
Но Лев Дановский видит в распаде смысл:
***
Т. Д.
Присутствует какой—то смысл в распаде,
Совсем не тот, что в притче о зерне,
Где происходит разрушенье ради
Рожденья, – утешительно вполне.
Не тот, что постоялец из подполья
Выискивает, перышком скрипя,
(Как тягостны записки исподлобья,
Как ненавидеть хорошо себя!) —
Но смысл прорыва, дикого стремленья
Из жизни: извести ее на нет,
Оставив искренность изнеможенья,
И подлинность, похожую на бред.
Мы сами знаем в сумасшедшей спешке —
Так в ливень задыхается вода —
Во что нам обойдутся те издержки,
Мы чувствуем торопимся куда.
А более разумных объяснений
Не нахожу, но предложу одно
Потустороннее: угрюмый гений
Распада призывает нас на дно.
В этих строках Льва Дановского стремление жить вопреки:
«…Но смысл прорыва, дикого стремленья
Из жизни: извести ее на нет,
Оставив искренность изнеможенья,
И подлинность, похожую на бред.
Мы сами знаем в сумасшедшей спешке —
Так в ливень задыхается вода…»
– в этих строках Дановским показана «искренность изнеможенья» от жизни через ливень, в котором «…задыхается вода». Жизнь и ее течение – это ливень, непрерывно движущееся волокно времени.
И та сухая оболочка из стихотворения «Вот стрекоза, припавшая к стеклу…» – убывание, «вычитание», как сказал Иосиф Бродский, – но убывание в жизнь, так как у Дановского «… тело, прекратившее полет, \\ Изнемогло от ожиданья сада», – ожидание – это жизнь, ожидание рая, счастья. Это движения души по вектору перевоплощения.