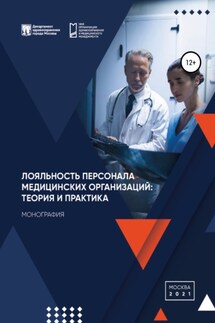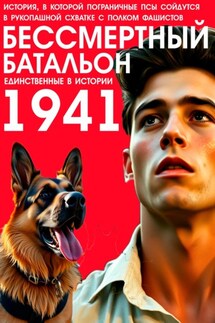Этюды и смыслы. Опыт критической мысли - страница 9
дыра в заборе
или кукиш рамы,
застывшие солдатские кресты,
свистящие из снежной панорамы,
звезда в ночи,
огонь из блиндажа,
самоубийство – как побег из плена,
фигура бесприютного бомжа —
как сгорбленная формула вселенной.
Вселенная бездомна, как огонь,
кочующий по воющим каминам…»
Есть очень немногие люди на свете, поэты, несущие свет. Много лет назад я открыла для себя Ольгу Седакову, как чудо. Чувственная органика ее поэзии необычайна:
«… Дикий шиповник
идет, как садовник суровый,
не знающий страха,
с розой пунцовой,
со спрятанной раной участья под дикой рубахой.»
Вот именно «спрятанной раной участья под дикой рубахой» здесь цепляет за чувства, открывает осязательный импульс. Притяжение света и радости имеет неожиданную проекцию в самых неожиданных моментах, мгновениях ее поэтических строк:
«Где—нибудь в углу запущенной болезни
можно наблюдать, удерживая плач,
как кидает свет, который не исчезнет,
золотой влюбленный мяч.»
Явление неожиданного образа: из «…углу(а) запущенной болезни» в «свет, который не исчезнет, в золотой влюбленный мяч». Это диаграмма выхода из темноты на свет дает поэтической душе кислород.
Содержательны стихи Дмитрия Бирмана в подборке журнала «Артикль». Автором великолепно выражена реальность познания мира и себя.
«Кто знает – что нам можно, что нельзя?»
– вершина прозрения, здесь поэт выступает Архатом, и сотворенный не им мир обретает язвительную отметку несовершенности творения. Честно и прямо поэт говорит о принципах и правилах жизни, перешагнуть которые способен только мост фантазии как замена реальности, разрушающей счастье. Это не стихийный выплеск эмоций, понятно, что сердцем выстаданные ощущения дисгармонии мира легли в основу сюжетов стихов Дмитрия Бирмана. Истоки отчаяния в ироничном восприятии мира:
«Карикатурность бытия
уже давно зашла за грани…».
Лирическим героем стихов утрачена сердечная гармония, карикатурность входит в жизнь, и главной нотой становится минорность настроения, что для современной поэзии норма: личность и лирический герой поэзии Д.Бирмана ищет выхода из лабиринта судьбы.***
Сквозь многожанровость и непохожесть современной поэзии и разных поэтов одного на другого, нельзя не заметить прорывающийся голос прекрасного: природы, ее участия в судьбе лирического героя, совершенно неожиданные ходы лирического созерцания в глубине собственной души, поющей в унисон поэтам—современникам. Это может быть голос народной совести или проснувшегося сознания, когда сквозь гонки социальных перспектив рвется наружу собственный голос поэта. Такой голос надо услышать или разглядеть в строках, и нельзя его затыкать и делать вид, что раз он не похож на другие, то он «не наш», его нам не надо, – это неправильно. Поэзия многогранна, топить ее певчие голоса нельзя неосторожным словом, давлением на личность и душу поэта, ведь поэт пишет от души, и каждое слово против его открытого пения – чтения – прочтения эфемерно и невыносимо для поэта, автора стихов. Переубедить в чем—то своём и попытаться заставить писать иначе – это лишить голоса поэта. Ставить планки: выше нельзя, там занято – это абсурд, который только навредит мировоззрению автора и выведет на тропу войны. Тихо, на цыпочках, могут ходить не все, – это необходимо учесть многочисленным критикам, которые ставят во главу угла свое мировоззрение как единственно ценную идею. Понять и выслушать надо слабого, как сам голос нежности без грохота и лязга.