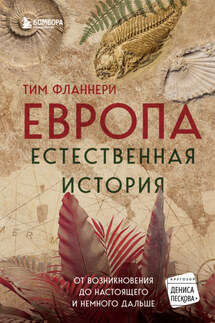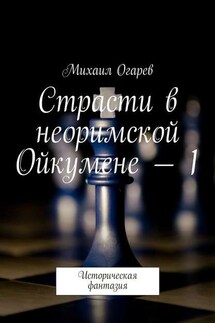Европа. Естественная история. От возникновения до настоящего и немного дальше - страница 15
Существует пять видов жаб-повитух (род Alytes)[45]: широко распространенная обыкновенная жаба-повитуха (A. obstetricans), три вида, живущих в Испании и на ее островах, и один вид (A. maurus), попавший в Марокко из Испании в недавнем геологическом прошлом. Балеарская жаба-повитуха (A. muletensis) принадлежит к так называемым таксонам Лазаря и изначально была описана по окаменелостям[46]. Она была широко распространена на Мальорке до прибытия туда людей, но после появления мышей, крыс и других хищников исчезла. Немногие особи выжили незамеченными в глубоких долинах Сьерра-де-Трамонтаны на севере острова. После открытия вида в 1980-х их снова поселили в различных частях Мальорки, где они теперь процветают при некотором содействии со стороны людей >30.
Жабы-повитухи сыграли ключевую роль в почти забытом научном споре начала XX века между английским статистиком и биологом Уильямом Бэтсоном (автором термина «генетика») и немецким профессором Рихардом Земоном и его коллегами, которые отстаивали негенетическое наследование через ламаркианскую форму клеточной «памяти»>31.
Рихард Земон обладал блестящим умом. Родившись в Берлине в 1859 году, он провел большую часть юности в дикой Австралии, где собирал биологические образцы и жил с австралийскими аборигенами. После возвращения в Германию он изучал, как идеи и черты характера передаются от одного человека к другому. Его книга «Мнема», вышедшая в 1904 году, стала фундаментальным трудом в этой области, а ее влияние ощущалось далеко за пределами биологии. Она начинается с наблюдения:
Попытка обнаружить аналогии между различными явлениями воспроизведения отнюдь не нова. Было бы странно, если бы философы и натуралисты не поражались сходству между воспроизведением формы и других характеристик родительских организмов у потомства и воспроизведением другого рода, которое мы называем памятью.
Пытаясь объяснить свою концепцию, Земон вспоминает:
Однажды мы стояли у Неаполитанского залива и видели лежащий перед нами Капри; рядом музыкант играл на шарманке; из соседней «траттории» до нас доносился специфический запах масла; солнце безжалостно жарило наши спины; ботинки, в которых мы ходили часами, жали ноги. Спустя много лет аналогичный запах масла особенно ярко экфорировал [вызывал в памяти] оптическую энграмму [воспоминание] Капри[47]. Мелодия шарманки, солнечная жара, дискомфорт обуви не экфорировались ни запахом масла, ни новым представлением Капри… Это мнемическое свойство можно рассматривать чисто с физиологической точки зрения, ввиду того что оно восходит к воздействию стимула на раздражаемое органическое вещество >32.
Согласно Земону, это было верно независимо от того, является ли мнема воспоминанием или какой-то наследуемой характеристикой организма, например цветом глаз.
Соперничество Британии и Германии и ужасы Первой мировой войны привели к тому, что книга Земона не была переведена на английский язык до 1921 года, что было уже слишком поздно для автора. Будучи большим националистом, он так остро ощущал поражение и позор капитуляции, что завернулся в германский флаг и застрелился. Сегодня Земон не совсем забыт. Его имя носит сцинк, обнаруженный на острове Новая Гвинея. Самым характерным признаком ящерицы Prasinohaema semoni является ярко-зеленая кровь[48].
После смерти Земона его работу продолжила группа специалистов из Венского университета, и среди них был блестящий молодой ученый Пауль Каммерер, который до биологии занимался музыкой. По современным меркам его эксперименты выглядят странно, но тогда они считались вершиной научной элегантности. Его величайшие триумфы были связаны с манипулированием половой жизнью обыкновенной жабы-повитухи. Работая с сотнями бородавчатых созданий, он принуждал их отказаться от предпочитаемого ими спаривания на суше.