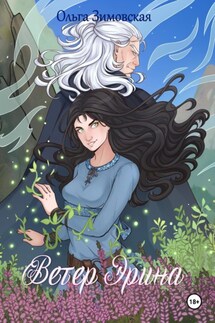Феномен кино. История и теория. Статьи разных лет - страница 16
Поскольку уже единичный моментальный фотоснимок с киноленты производит некий моментальный эффект (остаточное зрение), то именно его мы примем за отправную точку наших рассуждений для того, чтобы понять сходство и различие фотографии и кино.
Во всяком случае, кадром и здесь и там называется изображение, которое фиксируется на плёнке за время работы механизма затвора. В фотографии это единичная фотоклеточка, в кино – последовательность снимков. Природная документальность кинокадра, в отличие от фото, сказывается в том, что моментальные снимки следуют один за другим именно в том порядке, в каком были сделаны. Каждый следующий удостоверяет предыдущий. Сырой материал киносъёмки, показанный с той же скоростью, с какой был снят, и не обработанный для получения эффектов, вторичных по отношению к тем, что уже содержатся в самом объекте съёмки, всегда документ предкамерной реальности.
Трюковые операции с моментальными снимками вполне разрешают фальсификацию документа: она может быть незаметна. Манипуляции с движущейся плёнкой могут быть направлены только на выявление самих себя – с целью достижения соответствующего эффекта. Этим объясняется большая степень доверия к документальности кинокадра в сравнении с фотокадром.
В кино очень тесно связаны между собой понятия кадра, документальности и моментального эффекта, причём последний компонент этой триады легче всего воспроизводится при нарушении любого из двух других.
Вообразим ленту, склеенную из моментальных снимков, где каждый вырезан из какого-то кинокадра. При обычной, да и при любой другой проекции на экране изображение окажется мешаниной раздражающих глаз пятен. Но это уже принцип, доведённый до абсурда, – мы получим помеху в чистом виде, не несущую никакой информации.
Эйзенштейн, монтируя известный эпизод разгона июльской демонстрации в «Октябре», заставил «помеху» заработать. Соединяя по два кадрика-клетки с пулемётом и стреляющим из него пулемётчиком, режиссёр заставил зрителя физически ощутить нервную вибрацию оружия – вероятно, при использовании двойной экспозиции такой эффект не был бы достигнут.
Но что в данном случае считать кинокадром? По отдельности снятые длинные планы пулемёта и человека? Или чередующиеся пары моментальных фотоснимков? Или получившуюся в итоге ленту? Ведь отдельно снятые первоначальные кадры здесь были разъяты, двуклеточные единицы монтажной структуры не существуют друг без друга, а итоговый результат нельзя признать непрерывно снятым за время работы затвора.
Эйзенштейн, вспоминая об этом эксперименте, объяснял склейку по два моментальных снимка тем, что один снимок не был бы заметен при проекции. То есть не сработал бы эффект остаточного зрения.
Возможны и другие трюковые операции с плёнкой подобного рода. Например, можно окрасить каждый моментальный снимок целостного кинокадра в разные цвета. Или, взяв соответствующие негатив и позитив одного кинокадра, разрезать их пополам и продолжить негативное изображение позитивным, либо наоборот – такой приём применён, в частности, Кулешовым в «Сорока сердцах» (1930) и Годаром в «Альфавиле» (1965). Очевидно, что это будут эффекты внекадрового происхождения, искусственно создаваемые помехи.
Но если даже счесть кадром кусок плёнки от склейки до склейки, то это вовсе не означает, что он должен быть результатом непрерывной съёмки. Л. Фелонов в книге «Монтаж в немом кино. Ч. I. Фильмы Люмьера и Мельеса» пишет: