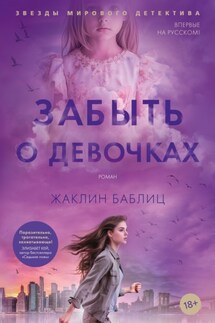Феномен кино. История и теория. Статьи разных лет - страница 18
На экране портреты потеряли свою скованность и представительность, перестали быть документом, а превратились в некоторую физиономическую игру, порой весьма утрированную и вульгарную. Первым опытом Смита в новом жанре оказался фильм с двумя персонажами (выделено автором. – Н. И.). Он длился всего 40 секунд – просто сидели рядом пожилые супруги, и каждый наслаждался по-своему: он, держа в руке кружку, похлёбывал пиво, она нюхала табак и чихала.
Забавный этот фильм, хотя и лишённый сюжета, понравился публике, и Смит продолжал снимать подобные картинки…
Мы не будем вдаваться в подробное описание этих фильмов, приведём только их названия. По ним легко догадаться, что происходило на экране и чем занимался актёр в том или ином случае: «Первая сигара», «Тупая бритва», «Надоедливая муха», «Тугой воротничок», «Слепой нищий», «Чтение утренней газеты», «Семейная ссора», «Рассказывание анекдота», «Дама за туалетным столиком», «Актёр» (исполнитель гримируется то стариком, то старухой), «Целующиеся негры», «Не та бутылка» (бродяга по ошибке вместо виски выпивает скипидар), «Волшебный эликсир» (старик превращается в молодого человека), «Суфражистка произносит речь», «Монокль мой и Чемберлена», «Конкурс курильщиков».12
Здесь всё верно, за одним исключением: экранные портреты не перестают быть документом (по сравнению с фотографией), а становятся им – документом предкамерной реальности. Очень точно отмечены феноменологическая, неповествовательная природа кино – зритель охотно смотрел эти короткие однокадровые бессюжетные фильмы – и документированность кадра, легко вычисляемая из приводимых Л. Фелоновым примеров: среди шестнадцати упоминаемых названий нет ни одного, которое бы сообщало дополнительную информацию о внутрикадровом действии. Эти названия подобны номерам в каталоге, отмечающем хранимую вещь; в их назойливой тавтологичности по отношению к фильму-кадру нет никакого издевательства над зрителем.
Фильм Г. Франка, показывающий ребёнка, увлечённого каким-то зрелищем (видимо, кукольным спектаклем), заставляет зрителя задуматься о реальном времени, которое малыш тратит на созерцание спектакля, а сам зритель – на фильм; зритель, смотря на мальчика, думает о себе. Называйся фильм «Ребёнок в зрительном зале», подобного эффекта не создалось бы.
Фильм Смита, показывая целующихся негров, называется «Целующиеся негры», а не «Смертельная страсть», например. Кадр с дамой за туалетным столиком называется «Дама за туалетным столиком», а не «Перед балом».
Возвратимся к движению моментальных снимков и попытаемся разобраться: почему при весьма условной документальности фотокадра документальность кинокадра почти никогда не вызывает сомнений. Всегда ли кадр должен двигаться? Плёнка должна. А кадр? Вероятно, нет. Поясним мысль на конкретном примере.
В практике кинематографа широко применяется трюк стоп-кадра. Это повторённый требуемое количество раз, «распечатанный» моментальный фотоснимок. И если на экране возникает изображение, обладающее абсолютной неподвижностью (пустой интерьер, снятый недрогнувшей камерой), то, кажется, не должно быть принципиальной разницы между действительно снятым с реальности куском плёнки и стоп-кадром, распечатанным в лаборатории. Между тем разница есть. Потому и используется этот трюк, что он хорошо заметен.
Стоп-кадр опознаётся даже тогда, когда мы имеем дело с надписью (интертитром), если он не снят с титрового плаката, а распечатан с единичного кадра-клетки. В «натуральном» интертитре всегда заметна пульсация реального времени. Стоп- кадровый интертитр производит впечатление мертвенности, неестественности надписи. Это моментальное ощущение соответствует природе стоп-кадрового времени, неадекватного естественному, природному времени, поскольку оно (стоп-кадровое) не замещается пространством (длиной) плёнки, а наоборот: длина плёнки создаёт искусственное, чисто фильмическое время. Но об этом чуть позже.