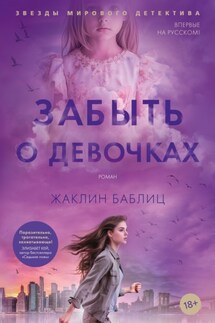Феномен кино. История и теория. Статьи разных лет - страница 19
Дело в том, что фактура предметов реального мира, проецируемого на экран, подвергается деформации со стороны самой плёнки, фиксирующей изображение. Кристаллическое строение плёночной эмульсии обусловливает неравную плотность фиксирующего материала на разных участках площади кадра, и на экране фактура (видимая поверхность вещей) предметного мира уже разложена изнутри не видимой невооружённым глазом, незаметной на единичном снимке текстурой плёнки. Каждая клеточка непрерывно снятого куска плёнки имеет собственную, неповторимую кристаллическую текстуру, и при проекции она не играет большой роли. А когда умножается один снимок, невидимое становится заметным, поскольку мы наблюдаем уже не столько изображение, сколько разлагающую его текстуру снимка.
Это свойственная самой природе кино естественная помеха, и она связана с последующей жизнью фильма. Перевод изображения с одной плёнки на другую (контратипирование, необходимость которого вызывается тем, что плёнка не может храниться вечно, портится от времени или просто изнашивается) с каждым разом всё больше и больше наслаивает на одном изображении множество различных кристаллических текстур, способных в конечном итоге совершенно подавить изображение. Но это и есть культурный слой со знаком «минус», удостоверяющий функционирование вещи в культурной среде.
Поэтому из двух одинаковых по «возрасту» кинокадров большее доверие и больший интерес всегда вызывает тот, который разрушился больше, хотя информационная насыщенность свойственна, конечно же, другому.13
Разумеется, возможность проявления и огрубления кристаллической структуры снимка ощущалась людьми, пытавшимися определить феномен кино через трепет серых листьев или волнение людской массы. Так, 3. Кракауэр писал:
«Во времена своего исторического рождения человеческая толпа – это гигантское чудовище – была чем-то новым и ошеломляющим. Как и следовало ожидать, традиционные искусства оказались неспособными объять и изобразить её. Однако в том, что не давалось им, преуспела фотография; её техническое оснащение позволяло отображать толпы, случайные скопления людей. Но лишь кинематограф, в некотором смысле завершающий фотографию, сумел показать человеческую толпу в движении. В данном случае технические средства воспроизведения появились на свет почти одновременно с одним из своих главных объектов. Этим объясняется сразу же возникшее пристрастие фото- и кинокамеры к съёмке людской массы. Ведь нельзя же объяснить простым совпадением, что уже в самых первых фильмах Люмьера были сняты и выход рабочих из ворот фабрики, и толпа на перроне вокзала во время прибытия и отправления поезда».14
Заполненность кадра тысячами шевелящихся частиц – такое же феноменологически-эстетическое явление, как несоответствие реальной действительности и кадровой, искажение камерой и образа реального мира, и глазного восприятия, взаимосвязь трюка и эффекта, взаимообращение информации и помехи. Контратипированием наращиваются кристаллы кадровой текстуры, и накопление помех вызывает тот же феноменологический эффект, что и максимально информативная беспристрастная съёмка огромной толпы. Это обстоятельство может быть и творчески обыграно – см., например, «Начало» А. Пелешяна (1967). Однако перегруженность кадра деталями (в равной степени смысловыми и помеховыми) присуща и фотографии, и кино. В чём же уникальность именно кинокадра? Возвратимся к последовательности моментальных фотоснимков, сбалансированной одновременным тяготением к сжатию (вводимой извне механической помехой, трюком) и расширению (накоплением естественных изменений, не всегда помеховых). Что такое моментальный фотоснимок? Ограниченное формой прямоугольника изображение живой реальности. Оно не претендует на то, чтобы документировать время. Выдержка (время работы затвора) в моментальной фотографии влияет на эстетику снимка, и потому она нефеноменологична: зрителю, разглядывающему фотографию, безразлично, равнялся ли фотографический «момент» 1/3 или 1/1 000 секунды, – ему важен конечный результат.