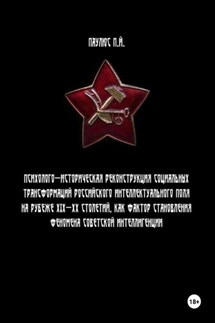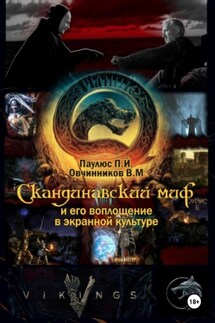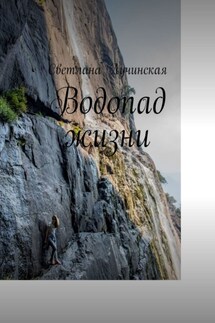Феномен мифа в пространстве современного культурного производства в контексте доминирования «скандинавской образности» - страница 31
Однако у истоков этого подхода мы можем обнаружить таких выдающихся философов, литераторов и общественных деятелей, как И.В. Гете, Ф. Шиллер, И. Винкельман, К.Ф. Мориц, К.А. Бёттингер198, отождествлявших миф, поэзию и истину. К ним относится И.Г. Гердер, который замечал, что «миф содержит символы и иероглифы божественного. Причина и природа мифа сверхчеловечны»199.
Нельзя не заметить, что в рассуждениях романтиков присутствует очевидное «кантовское влияние», которое наиболее ярко прослеживается в трудах Шиллера и Гете, которые постулизировали концепцию свободной игры, демонстрирующей в мифе своего рода «круговорот творческой энергии», выходящий за пределы в полной мере осознаваемых интеллектуальных и образных средств выражения, что как концепцию развивает К.Ф.Мориц, видевший в мифе поэтическую праформу человеческой духовности. Устойчивый интерес европейских мыслителей, продолжающих превозносить греко-римские идеалы, проникнул и в Восточную Европу, где укрепился в реалиях реализации концепции Просвещенного абсолютизма, но на тот момент в российской философской и исторической мысли не сформировалось самобытной трактовки феномена мифа.
И европейские, и российские интеллектуалы в равной степени были восхищены умозаключениями Фридриха Вильгельма Гегеля, который в отличие от романтиков абсолютизировал рационализм, доведя его до крайних форм, таких как панлогицизм. Он отвергал возможность «тождества мышления и бытия», в том числе и при рассмотрении мифотворчества, полностью доверяясь разуму, утверждая, что миф – закономерная фаза развертывания Абсолютного духа, форма развития самого себя постигающего логического мышления, «форма изложения, которая… вносит чувственные образы, изготовленные для представления, а не для мысли»200. Гегель предлагает рассматривать проблему мифа рационалистически: «только в понятии истина обладает стихией своего существования»201. Феномен мифотворчества он рассматривал в контексте бытия абсолюта, демонстрируя трансформацию от чувственного созерцания к понятийному мышлению, не отказываясь при этом в полной мере от «романтической» трактовки, видя в разного рода символах метаморфозы изменения Абсолютного духа, ибо ту «эпоху, когда народы создавали свои мифы, они жили поэзией, и поэтому осознавали свои самые внутренние и глубокие переживания не в форме мысли, а в образах фантазии, не отрывая общих абстрактных представлений от конкретных образов»