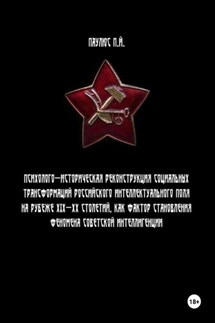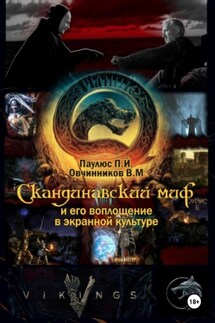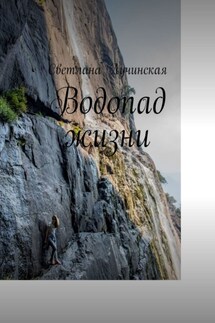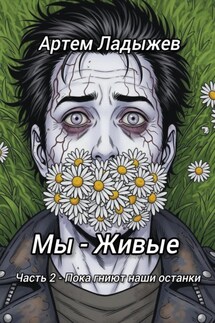Феномен мифа в пространстве современного культурного производства в контексте доминирования «скандинавской образности» - страница 29
Иммануил Кант стоял на позициях, которые оспаривал Шарль де Бросс, будучи уверенным, что основой мифа, является страх, связанный обычно с переживанием «неисполненного долга», сочетаясь с безграничным человеческим воображением, что формирует понимание божественного в виде многочисленных высших запретов и норм долженствования, страх перед которыми влечет за собой появление искупительной жертвы – конструкции, влияющей на оформление мифа, который появляется вследствие соединения эмпирической и морализаторской составляющих формирующейся веры. Описываемая трактовка стимулирует особый интерес к феномену поэтики и символики мифа, который проявился в творчестве романтиков (братьев Шлегель, Хр.Г. Гейне, Ф.В. Шеллинга), которые подвергли критике идеалы эпохи Просвещения и выдвинули на первый план идею целостного, гармоничного мировосприятия.
Обобщая принципы романтизма, который тяготел к анализу символики мифа и философского символизма мифотворчества, упомянутые ранее мыслители видели в мифе объективную категорию, являющуюся своего рода субстратом «народного духа», подтверждением чего было выделение смысловых контекстов мифотворчества – натуральных (включающих в себя биологический и социальный компоненты) и трансцендентных. Возведение символизма в абсолют стало основой формирования принципов компаративного анализа, в основе которого лежало сравнение мифа с иными формами культуры, что находит свое отражение в трудах Фридриха Шеллинга и Жозефа Франсуа Лафито, которые в первую очередь уделяли внимание смысловой основе различных символов. При этом романтики стояли перед сложнейшей проблемой осознания деструктивности рационального познания, которое в виде «научной картины мира» обеспечивало потерю связи между человеком и универсумом, и именно миф как комплекс символов, по их мнению, был единственной возможностью восстановления гармонии между духом и материей, что в свою очередь и вело романтиков по пути рассмотрения «космоса» через призму эстетики, уделяя внимание символизму и мистицизму художественных и поэтических образов, которые и обеспечивали восстановление баланса и познание мира через стихию таинственных смыслов посредством мифа и символов.
Стоит обратить внимание на характерные для романтизма трактовки символа как базовой составляющей мифа. Характеризуемый феномен рассматривался в качестве проявления антагонизма – сочетания бесконечного и сокрытого в конечном, то есть локализованном и открытом конкретно-чувственном образе. Бесконечное есть абсолютизированная категория, связываемая в тот период с пониманием божественного, что определяло уделение внимания мистической составляющей, ориентирующей символическую трактовку мифа на постижение трансцендентных смыслов мифотворчества, что находит отражение в рассуждениях Фридриха Крейцера, видевшего в мифе богатейшую символику бесконечного, анализ которой является основным путем философствования и научной рефлексии в рамках познания мироздания (Космоса). Как следствие, философ в рамках его концепции универсального единства религий выделял миф в качестве уникальной категории, в рамках которой прослеживается комплекс «мистических символов», отражающих некоторые грани природы бесконечного и «символы пластические», демонстрирующие локализацию пространства бесконечного в замкнутые формы. Таким образом, любые гротескные образы, фигурирующие в мифе в первую очередь, должны раскрыть символику бесконечного и показать через образы древнейших богов и героев, как «красота формы объединялась с высочайшей полнотой сущности»