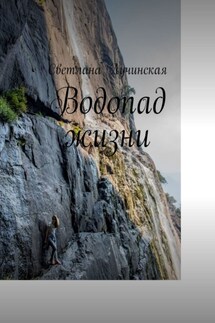Феномен мифа в пространстве современного культурного производства в контексте доминирования «скандинавской образности» - страница 8
Эпикурейцы весьма критически относились к древнегреческой мифологии, как и к мнению массы о богах, вызывающих смятение человеческих душ и мешающих человеку достичь счастья. Эпикур трактует бога как особого рода абстракцию, лишая мифологию сверхъестественных оснований, оставляя при этом возможность «обожествления мира». Цицерон, излагая принципы эпикуризма, писал: «… Необходимо признать, что боги существуют именно потому, что знания об этом заложены в нас (insitae) или, лучше сказать, являются врожденными (innatae)… В нас, есть «антиципация», или предварительное знание о богах, «предзнание» (praenotio)»77.Сам же Эпикур, затрагивая проблему мифа и массового сознания, утверждал: «Нечестив не тот, кто устраняет богов толпы, а тот, кто применяет к богам представления толпы; ибо высказывания толпы о богах являются не естественными понятиями, но лживыми домыслами, согласно которым дурным людям боги посылают величайший вред, а хорошим – пользу»78.
В стоицизме аллегорическая концепция мифа продолжает свою трансформацию в контексте онтологизации аллегорического смысла «повествования». Аллегория, являющаяся смысловым фундаментом мифа, не противопоставляется чувственному мифообразу, а логически связывается с ним, образуя некое «образно-семантическое целое». Затем обозначенному «образно-семантическому целому» придается онтологический статус: оно объявляется реально существующим звеном структуры Космоса. Поэтому в стоицизме боги не бестелесные и бессмертные сущности, а иерархически соотносящиеся телесные и смертные существа. Все они, кроме Зевса, который сам воплощен в мировом огне, сгорают во время вселенского мирового пожара, а затем воскрешаются79. Эти боги – особые «потенции», «узлы» в иерархической организации Космоса. Благодаря им единый космический организм «разветвляется» на качественно различные стихии: воду, воздух, землю, различные движения и др.
Стоит обратить внимание на феномен общественно-политической или параисторической мифологии римлян, в научной литературе получившей именование «римский миф». Специфика общественно-политической или исторической мифологии заключается в том, что она создается не массовым сознанием, а творческими личностями из среды и по заказу правящей элиты. Так было в Риме, так будет и в европейских странах эпохи раннего нового времени. Ж. Дюмезель и М. Грант подчеркивают, что формирование общественно-политической мифологии у римлян началось во время трансформации архаичного общества в античную общину, т.е. в V – III в. до н.э.80. Немаловажным фактором является то, что этот период сопряжен не только со значительными переменами во внутренней жизни римской civitas («гражданское общество»), но в большей степени с широкомасштабными завоеваниями, когда под контроль Рима попала вся Италия, а вскоре и западное Средиземноморье81.
Основы данного явления были заложены еще в республиканский период, однако военизированная идеология «римского мифа» в ее имперской интерпретации более отчетливо показывает специфику формирующейся философии управления государством. С учетом рассмотрения правителя как существа, обладающего «высшей силой» («numen»), как гаранта «золотого века»82, можно проследить влияние идей известного греческого философа и поэта Гесиода. Прежде всего, следует отметить, что термин «золотой век» в данном случае можно употреблять лишь весьма условно: у Гесиода в оригинале фигурирует «золотой род» («chruseongenos»), у Овидия – «золотое поколение» («aureaaetas»)