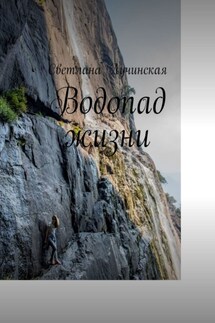Феномен мифа в пространстве современного культурного производства в контексте доминирования «скандинавской образности» - страница 7
Подобной позиции придерживались многочисленные школы «этического периода», во многом подобно скептикам постулирующие сомнение в качестве базового механизма познания. Таким образом, миф представлялся как символ, обладающий определенным онтологическим весом, или сверхличностным смыслом. Соответственно символ – это явление бытийного Абсолюта, объединяющее бесконечное в конечном посредством чувственного образа, который может трактоваться в том числе и как средство божественного откровения69. К подобного рода рассуждениям был близок мистик эпохи поздней античности Дионисий Ареопагит, утверждавший, что «всё зримое – символ незримой сокровенной и неопределимой сущности Бога»70.
В этом контексте мы полностью согласны с С.С. Аверинцевым, подчеркивающим, что символ есть образ в аспекте своей знаковости и знак, наделенный неисчерпаемостью образа. Два полюса символа – предметный образ и глубинный смысл. Смысл просвечивает сквозь образ. Образ имеет смысловую глубину, перспективу71. Во многом наши рассуждения близки к идеям последователей Эвгемера Мессенского72, что позволяет нам рассматривать мифологическую традицию как особого рода идеологическую систему, которую можно воспринимать в качестве одной из культурных универсалий, что отражается в рассуждениях А.Д. Ломана, А. Древса, Д. Штрауса, Б. Бауэра и пр.
Вторая же линия в интерпретации мифа в свою очередь может ассоциироваться с Платоном, видевшим в мифе лишь плод незрелой мысли, вводя философско-символическую интерпретацию мифа, что стало постулатом для картезианцев и мыслителей эпохи Просвещения. В своей трактовке мифа Платон перенес акценты с поэтическо-фантастического аспекта на целеорганизующее начало, демонстрируя, что миф несет в себе волевую интенциональность. В интерпретации сущности мифотворчества он делает шаг от аллегорической концепции мифа, которая обращена в прошлое. Он исходит из сознательного противопоставления мотива (смысла) и цели (образа) творчества. Платон возлагал большие надежды на социальную функцию мифа. «Если люди верят в Кадма или драконовы зубы, – писал он, – то они поверят во что угодно»73.
Данная позиция положила основу интерпретации мифа в традиции, которую Е.М. Мелетинский в работе «Поэтика мифа» охарактеризовал как «демифологизацию». Трактовки мифа в рамках демифологизации сводят специфику мифа к вымыслу, созданию иллюзии порядка в восприятии человеком окружающего мира, при этом это не в полной мере заблуждения, но лишь стремления к балансу, основанному на страхе перед неизведанным. А.Ф. Лосев подчеркивал, что учение об универсальном живом существе становится у Платона трансцендентально-диалектическим основанием вообще всей мифологии. Аристотель – великий рационализатор мифа – трактует миф в рамках «Поэтики» в качестве фабулы, оперируя при этом им же сформированными базовыми законами формальной логики. С точки зрения рационального взгляда на мир, миф не обладает статусом реальности и истинности в силу того, что данный феномен амбивалентен, он не подвластен закону противоречия и однозначности причинно-следственных связей74. Вместе с тем в трактовке философа миф есть не что иное, как механизм социо-нормативного контроля, обеспечивающего порядок и законность75.
Таким образом, эпоха досократиков, а затем классической философии положила начало традиции осмысления мифологических повествований с позиции разума, оставляя место для трактовки мифа, как непостижимого человеком «высшего бытия». Вместе с тем на границах двух обозначенных тенденций интерпретации мифа зародился целый комплекс локальных конструктов – таких, например, как феномен «политической мифологии», определившей иной ракурс вхождения мифа в массовое сознание. Подобного рода аллегория прослеживается в размышлениях эпикурийцев и неоплатоников, ярким примером чего может быть Эвгемер. Он создает свою трактовку мифотворчества, в которой боги – это не что иное, как обожествленные исторические персоналии: «Богами стали люди, которых стали почитать как бессмертных за их благодеяния, а некоторые из них стали прозываться так после того, как захватили [те или иные] страны»