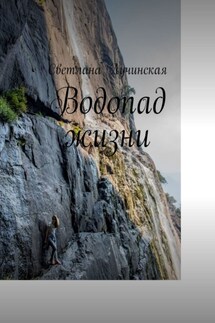Феномен мифа в пространстве современного культурного производства в контексте доминирования «скандинавской образности» - страница 6
Если сконцентрировать внимание на европейской интеллектуальной традиции, корни ее можно обнаружить в греческой философской традиции, где активно затрагивалась проблема соотношения рационального знания, сочетающегося с мифологическим повествованием. Подобная тенденция развития философии – это, пожалуй, фундамент развития «западной цивилизации». При этом в рамках теоретического осмысления природы и особенностей как древнейшей, так и современной мифологии исключительно важной являются тенденции к ремифологизации и демифологизации, анализируемые философами на протяжении нескольких тысячелетий.
.1.
Древнейший период развития мифа как социокультурной практики.
Своего рода истоком аналитической интерпретации мифологической традиции можно считать Гомера, сделавшего, пожалуй, первый шаг на пути трансформации мифа в эпическую поэзию, за которой последовали попытки рациона лизаторской интерпретации мифа, что можно связать с творчеством Гесиода, в рамках деятельности которого мифологема наряду со средством художественно-поэтического освоения мира становится также средством познавательного процесса. То есть намечается процесс трансформации «Мифа в Логос». Мыслитель видит в мифе не правду или ложь, но то, что должно было быть сохранено, в контексте формирования понимания исторического пространства, что прослеживается в его поэме «Теогония»66. Под воздействием гесиодовской концепции космогенеза начинает формироваться феномен мифографии – особого направления «первонауки», призванного систематизировать, интерпретировать и исследовать мифы. Первыми попытками анализировать миф, вершиной чего станут рассуждения Платона и Аристотеля, были хорографические эпосы Эвмела Коринфского «Коринфика», Кадма Милетского «Ктесис Ионии» и пр., описывающих мифологическте древности различных уголков Эллады. Наиболее известным произведением этого жанра является «Описание Эллады» Павсания67. Развитием подобной традиции в равной степени стали обладающие определенной долей рациональности рассуждения Гекатея Милетского, заложившего традицию рационалистической критики мифа.
Вместе с тем некоторые признаки ремифологизаторской линии, видевшей в мифе почти непостижимое человеком высшее бытие, можно проследить в древнейшей натурфилософии. В этом контексте миф трактуется в качестве аллегории, скрывающей в себе сущность стихий, а затем абстрактных понятий, влияющих на «космос» и формирующих «микрокосмос». Так, Эмпедокл, в частности, рассматривал многочисленных божеств как своеобразные воплощения: Зевса как аллегорию огня, Геру – воздуха, Гадеса – земли, а Нестиса – воплощения влаги.
Множество аналогичных толкований гомеровских богов и богинь было предложено целым рядом греческих философов. Так, Анаксагор толковал Зевса как воплощение разума, Афину – искусства и т. п. Аллегорические толкования давались и целым мифам. Например, миф о Кроносе и его жене Рее представлялся как аллегория неуклонного изменения земли во времени, поглощение одного другим. Аналогичные толкования мифов Илиады и Одиссеи могут быть обнаружены в рассуждениях Плутарха, что очередной раз подтверждает тезис о философичности мифа, сакральности знания, в нем хранившегося, повлиявшего на развитие так называемой «первонауки»68. Определения и трактовки мифа варьируются от понимания данного феномена как подлинной реальности, сакрального порядка бытия до иллюзии и заблуждения; от представления о мифе как художественном средстве до понимания его как орудия идеологического господства; от мифа как формы проявления коллективного бессознательного до рационального обоснования его природы. Близки к подобной позиции были и софисты, которые видели в мифе лишь аллегорию, связанную в первую очередь с эгоизмом человека, в сказаниях и эпической традиции «мастера красноречия» видели персонификацию природных сил, которую человек хотел подчинить себе, олицетворяя с самим собою, не желая признать, что он в полной мере не может их постигнуть. Так, Критий распространил на мифотворчество софистическую мысль, провозглашая, что поиск истины сопряжен с обманом и он совершается во благо. Человек, желая оградить себя от собственной дикости, создал миф как квинтэссенцию морализаторства, вкладывая в него особый смысл, который постепенно стал тайной и мистифицировал мифологические образы. Соответственно, мифопоэтическое творчество становилось предметом мистической экзегезы.