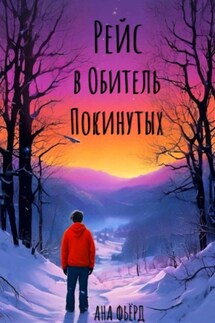Феноменологический кинематограф. О прозе и поэзии Николая Кононова - страница 10
В грамматике романа это время будет прошедшим-настоящим, то есть оно всегда-есть-и-навсегда-прошло. Эх, с этим свойством памяти нам суждено вечно жить, дорогой товарищ материалист! Кстати, антиномией к романному времени, скажу для ассоциативного сравнения, будет настоящее-будущее время в японской грамматике, а прошедшее в нём-навсегда прошедшим. Вот она и «чёрная японская дыра», куда заглянул Михаил Кузмин! На то и существует искусство, чтобы преодолевать косную грамматику.
Все три стихии отмечены знаком смерти – не в понимании «конечного», а как продолжение бытия по ту сторону чувственного и зримого. Именно им обязана память, которая воссоздаёт бытие в целом из частиц муравьиного хлама случайностей. «Земля» – это женское начало, это «мировые темноты», куда проникает голос мифического Орфея, которого замещает в романе мистифицированный Андрей Николев.
«Слышать зрением», странный оксюморон, конечно, но оказывается, что не для поэтического впечатления употреблён автором, но для метафизического смысла, который раскрывается в строке Андрея Николева: «слух остался в преисподней». В «мировых темнотах» земного времени романа «Фланёр» слух становится зрением, подручным инструментом, тростью, поводырём. Медленность, с которой мы спускаемся в «память» романа буквально на ощупь, это будто медленность слепого, видящего исключительно слухом. Я могу предположить (пусть это всего мои домыслы), что повествователь N. и впрямь слеп (ослеп), но читателю об этом не сообщается автором. Да и знал ли он об этом?
Известно, что у потерявших зрение людей особенно обостряется и «собачье» обоняние, и памятливость к деталям, чем изобилует повествование. Это позволяет им удерживать реальность в осязании и памяти. Персефона запретила Орфею оглядываться на Эвридику. Согласно или подобно этому мифу, повествователь N. тоже не должен увидеться с Тадеушем Гремыком до конца романа. Он должен только «слышать зрением» его шаги за своей спиной.
Ни похоронки увидеть, ни увидеть его живым – это значит уберечь возлюбленного от смерти, с одной стороны; в противном случае это всё равно, что признать себя смертным, то есть потерять идентичность с самим собой, потерять сообразность с целым (katholikos), которую N. обрёл в телесном соединении с Тадеушем. Эта целостность оказывается неразрушимой даже в случае гибели возлюбленного.
Встретиться с самим собой прошлым возможно в метафизическом смысле или в художественном произведении. Зрение/слепота- это то, что соотносится с феноменальным/ноуменальным миром. Вот почему Тадеуш назван «ноуменом», думаю, здесь и по Платону, и по Канту. Это нечто непостижимое, только мысленное, умопостигаемое, не телесное вообще или «ничто» в материалистическом смысле, это оставленный дыханием узор на морозном стекле, иллюминирующий образ, ослеплённый светом.
А что такое «ноумен» по Кононову, как не «animula vagula blandula» – «душенька, жалкая, скиталица, телу гостья и спутница». Выходит, что не зрение существенно в романе, а то, что выступает антиномией к зрению, это, конечно, не слепота в прямом смысле этого слова, а ослепление или, как говорит пушкинский Моцарт, «незапный мрак» («Вдруг: виденье гробовое, незапный мрак иль что-нибудь такое»), слепота как прозрение непостижимого, с которым необходимо совпасть.