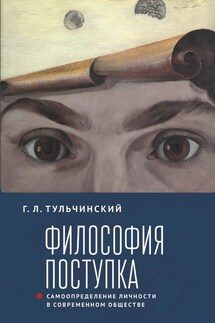Феноменология зла и метафизика свободы - страница 62
Такие асы-каскадеры – типичные самозванцы. Самозванство, как тень отца Гамлета, настигает и здесь: как в виде некомпетентного невротика, компенсирующего амбициями недостаток эрудиции, так и в виде этакого «супермена». И общество выстраивает системы политических, административных, правовых гарантий и защиты от подобных самозванцев. Однако никакие законы, инструкции, системы аттестации не дают 100 %-й гарантии, поскольку работает главный – нравственно-психологический источник самозванства – стремление к самоутверждению личности, почувствовавшей свои возможности.
Иногда альтернативой опасному поведению самозванного каскадера предлагается творческое поведение мастера: расширение компетенции субъекта, но не за счет понижения порога риска, не за счет воспроизводства одного и того же результата («и вчера мог и сегодня могу»), а при все более сложных условиях. Творчество – процесс бесконечного совершенствования, превращения деятельности в своего рода искусство, «игру». Если опасное поведение – в общем-то репродуктивно, не создает ничего нового, внося лишь «острые» переживания в духовную жизнь субъекта, то творчество всегда продуктивно, связано с получением нового результата, пусть даже если это новое будет относиться к не существенным параметрам результата – например, сделать это красивее. Каскадер-самозванец подобно наркоману «сидит на игле» самоутверждения с помощью однажды освоенного, мастер же стремится к освоению нового, того, что он еще не умел.
Оправданы ли такие надежды? Избавляет ли мастерство от самозванства? В первом приближении надежды вполне состоятельны. Ведь в конечном счете любое преодоление есть по сути дела самопреодоление, приобретение нового опыта, выход к новым горизонтам. Человек в любой момент времени не сводим к тому, что он есть, к тому, чем и кем он уже стал – он всегда, хотя бы немного, но больше «суммы своих свойств». Человек это еще и то, чем он еще не стал, то, что он еще не реализовал.
Как писал в «Назидательных новеллах» Мигель де Унамуно, в общении двух людей, например Хуана и Томаса, участвует как бы шесть человек: реальные Хуан и Томас – личности такие, какие они есть; идеальные Хуан Хуана и Томас Томаса – какими они сами видят себя; идеальный Хуан Томаса и Томас Хуана – какими они видят друг друга. Но, подчеркивал Унамуно, всегда есть еще «четвертый» человек – личность, какой человек хотел бы видеть себя, каким он хотел бы стать, не каким он себя видит, а каким бы он себя хотел видеть. Этого «четвертого» – творческое начало, творческий проект себя – Унамуно предлагал считать единственной подлинно реальной личностью. Она проявляется в человеке обычно не всегда, часто – случайно – во взгляде, жесте, улыбке, смехе. И чтобы ее узнать в человеке, его надо любить и ждать.
Стремление реализовать в себе «человека без свойств», стать больше, чем он есть, может выражаться в слабой форме – например у молодого человека, который сознательно или бессознательно, но хочет быть непонятным, загадочным для других, неразгаданным, не ставшим. Это может проявляться в одежде, поступках, лексике, нарочитой их парадоксальности и эпатаже окружающих. В сильной же форме оно выражается в установке на преодоление самого себя, выйти за свои собственные рамки, утвердиться на новых горизонтах и пределах, как стремление к самосовершенствованию, ко все большему мастерству и профессионализму. И мастерство также подлежит оценке.