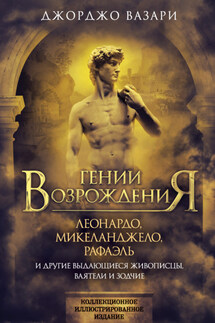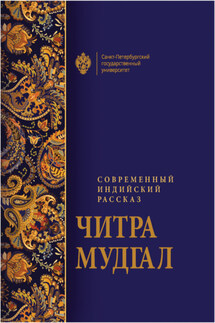Философия И. В. Киреевского. Антропологический аспект - страница 2
Поскольку антропология открывает нам тот слой мысли философа, где она более всего связана с его образом жизни и духовным опытом, где она непосредственно направлена на их основные структуры, такой подход создает возможность проследить развитие жизненной и теоретической позиции Киреевского в их взаимосвязи.
В самом общем виде эти антропологические позиции и соотносительные им философии могут быть классифицированы в терминах «трансцендентализма» и «онтологизма». Для первой из этих позиций характерны признание сознания «первичным и определяющим началом в человеке» [73, с. 15], стремление обрести твердое основание знания, поиск этого основания исходя из опыта своего «я» как наиболее достоверного; стремление к построению категориальной структуры мира, призванной обеспечить успешное действование субъекта в нем. Жизненная установка, из которой вырастает такая философская позиция, ближайшим образом может быть охарактеризована как эгоцентризм, предполагающий не только логическую, но и ценностную первичность моего переживания моей собственной душевной жизни (моих переживаний) по отношению к переживанию мира – независимо духовного или физического. Для второй – «познание признается лишь частью и функцией нашего действования в мире, оно есть некое событие в процессе жизни, – а потому его смысл, задачи и его возможности определяются из общего отношения нашего к миру» [73, с. 15]. В первом случае, жизненные практики субъекта направлены на всестороннее развитие индивидуальности, цель которого – наибольший возможный успех ее предприятий. Во втором – они подчинены так или иначе понимаемому служению, которое может осуществляться не иначе как посредством общения, коммуникации между со-служащими, которые тем самым преодолевают наличную обособленность своих индивидуальностей[4].
Надо сказать, что сам Киреевский вполне осознавал связи между образом жизни человека и его мышлением. Мысль отвлеченная, «чистая», для него нехарактерна. Напротив, он все время стремится к адекватному пониманию своей ситуации и к поиску способов разрешения содержащихся в ней жизненных противоречий и «нестерпимостей». Отсюда проистекает такая еще мало отмеченная черта его текстов, как свойственная им большая степень автобиографичности. В них постоянно присутствуют прямые или косвенные реминисценции, рефлексии подлежат те или иные, но всегда вполне конкретные жизненные ситуации и коллизии. Даже в первых литературно-критических опытах Киреевский всегда говорит не только о характере и значении тех или иных произведений, но и о своем личном опыте их прочтения, стремится описать их как события своей собственной внутренней жизни и через это указать затем на их общественное значение.
С его переходом от трансцендентализма к онтологизму связано постоянное присутствие и постепенное нарастание антропологической проблематики в его текстах. Его интересует не только как возникло то или иное произведение литературы или историческое явление, не только акт их возникновения, но и субъект, автор этого акта. На это качество указывали в свое время М.О. Гершензон [52, с. 17] и В.А. Котельников [101 с. 40]. При этом Киреевский, прежде всего, не упускает из виду своей собственной субъективности. В этом отношении он оказывается весьма близок к пониманию тех особенностей антропологического познания, о которых говорил когда-то в «Проблеме человека» М. Бубер: «Философское познание человека есть по самой своей сути самосознание человека, а человек может осознавать себя лишь при условии, что познающая личность, т. е. философ, занимающийся антропологией, осознает себя как личность…Для этой цели вовсе недостаточно сделать свое „Я“