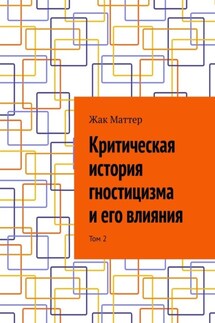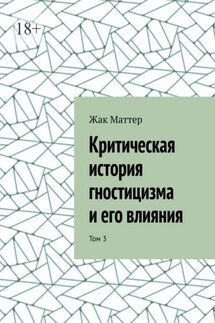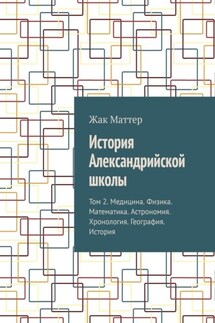Философия религии. Том 1. Наука о материальном мире - страница 9
Кроме того, если в конце концов возобладали отрицания эвгемеристов и эпикурейцев, поддержанные в этих тенденциях скептиками, и если – религиозные философы и нерелигиозные философы – все вместе сначала подрывали, а в итоге низвергли религию, которая так долго питала их системы, то лишь потому, что такова была их провиденциальная миссия. Не будем забывать и о том, что политеизм был покинут всеми, когда пришло время. Его предали жрецы, не сумевшие защитить его через развитие, и государство, не пожелавшее допустить его реформу ни через какие уступки. Так философы преобразовывали всё, а жрецы не умели ни противопоставить урокам философии лучшее учение, ни предложить доктрину более здравую, чем их собственная – и политеизм сам вырыл себе могилу. Жречество, предав религиозные интересы народа, чье воспитание было ему доверено, и государство, желавшее именем закона навязать всем совестям мнения, которые уже ни для кого не были авторитетными, – все оказались готовы к иному порядку вещей. Однако эта подготовка была скорее негативной, чем позитивной. Действительно, закон запрещал любые нововведения, а дух прогресса требовал их непрестанно. Отсюда – неизбежные преследования всех мыслителей, столь законное осуждение и столь оплакиваемая смерть Сократа, столь прозрачный эзотеризм Платона, столь осторожное бегство Аристотеля и, наконец, столь страстное раздражение школ против святилищ, не говоря уже о столь горькой враждебности святилищ к школам.
Если бы нужно было говорить об этом, легко было бы вскрыть эти противоречия, выделив их из множества фактов, которые недостаточно исследованы под этим поучительным углом зрения.
У римлян, как и у греков, следует четко различать позитивную религию – религию государства, жречества, прежде всего народа – и религиозную философию людей, воспитанных в Греции или греками. Хотя у этой философии в Риме было лишь три писателя – Лукреций, Цицерон и Сенека, – она выполнила ту же миссию, что и греческая метафизика, и, достигнув того же предела, так же разбила сосуд, вкладывая новые идеи в старые формы, в старые институты, которые их не вмещали. Не осознавая того, римские философы, как и греческие, открывали дверь той высшей религии, которая тем менее боится философии, что повсюду наследует её, даже при жизни своей жертвы. Действительно, христианская религия обязана своими величайшими триумфами тому, что с самого рождения восприняла философию. Она допустила её в свои исторические повествования и догматические тексты, как и в свои этические предписания. Она сделала это сдержанно, в границах истины и скорее для нужд борьбы, чем для поиска решений. Но главное – она сделала это независимо и с чувством превосходства, заявляя всем, что отличает истинную науку от той, что ложно носила это имя.
Союз с философией, даже если бы он не был выбором христиан, стал для них необходимостью.
С первых же шагов христианство обнаружило, что две главные религии, которые оно пришло заменить, тесно связаны с философией. Иудаизм как бы возродился в метафизических формах – я имею в виду каббалу и филонизм, – а также в этических, под которыми я разумею ессеизм и терапевтизм, предлагавшие великие соблазны теории и практики, ибо мистицизм и аскетизм всегда этим отличаются.
С самого возникновения христианской веры политеизм, в свою очередь, перестраивался в новых формах – одних более метафизических, других более этических. Как только философы заметили, что жречество этой новой религии проявляет к ним меньше терпимости, чем жречество старого культа, и что, борясь с общественными верованиями и опустошая души, они готовят их для христианства, они предприняли попытку восстановить эллинизм из его обломков. Украшая эти руины всей поэзией и метафизикой, какие только находили в самой блистательной литературе мира, они льстили себя надеждой создать религию, гораздо превосходящую ту, которую называли невежественной и варварской. Именно это делали с разной степенью таланта: Аполлоний Тианский, которого его биографы – особенно Филострат – охотно поставили бы на один уровень с Иисусом Христом и который, возможно, и сам помышлял о чём-то подобном; Аммоний Саккас, присвоивший восточную пневматологию и желавший примирить её с христианством; Плотин, одухотворивший весь политеизм; Порфирий, который в учёном и обстоятельном сочинении столь яростно оспаривал философские достоинства христианской веры; Ямвлих, который, не решаясь более нападать на религию, ставшую религией империи, напыщенно противопоставлял ей легковерные мистерии древнего Египта; Максим Эфесский, замышлявший вместе с императором Юлианом крушение христианских институтов; сам этот отступник-принцепс, преследовавший их после предательства и подражавший им даже во время гонений; Прокл, считавший себя последним звеном таинственной герметической цепи и потому бывший самым ревностным среди философов, преданных этой отныне невозможной реставрации, – чья аскетичная и чистая жизнь всё же вдохновлялась более ненавидимым им христианством, чем платоническим мистицизмом, новым толкователем которого он себя сделал.