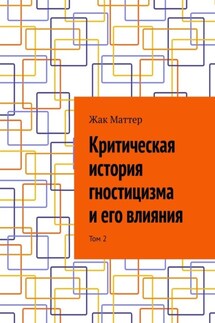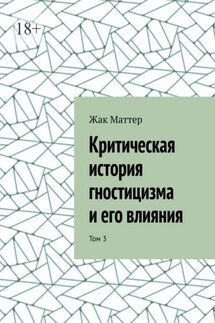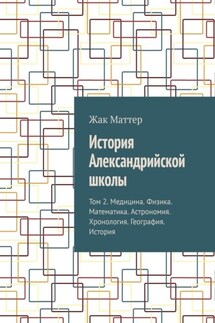Философия религии. Том 1. Наука о материальном мире - страница 11
Среди преемников двух апостолов особенно выделяются двое, шедших этим путем: святой Игнатий и святой Поликарп. Иустин Мученик и святой Климент Александрийский пошли еще дальше, как и Ориген, ученик философа и создатель александрийской догматики. Святой Василий, воспитанный в Афинах, полон философии, как и Григорий Нисский и Немесий Эмесский, сохранивший для нас любопытную беседу Аммония Саккаса.
Псевдо-Дионисий Ареопагит в своей доктрине представляет, наконец, тесный союз религии и философии.
Тот же союз существовал и на Западе. Он составляет великое украшение сочинений святого Августина. Он встречается и у Клавдиана Мамертского. Оба эти учителя, объясняя прекрасные тексты святого Иоанна и святого Павла, вдохновлялись прекрасными текстами Платона и Филона. Все знают ученость, возвышенность, платонический стиль и пристрастия святого Августина. Клавдиан, возможно, даже более открыто, чем он, исповедовал христианизированный платонизм. В своем трактате «О состоянии души» он говорит очень просто: «Я часто цитирую в качестве авторитета Платона, главного из всех философов, ибо я побежден восхищением». Он считает себя вправе цитировать и других: Архита, Филолая и особенно Порфирия, которые для него также – люди, озаренные лучами истины, «luminе veritatis afflati».
Обычно, говоря о союзе христианской доктрины и философии, имеют в виду лишь спекулятивную теологию александрийских учителей. Но мы впервые видим этот союз у святого Иоанна, современника Филона, одной из светочей этого очага наук. Он проявлялся везде, куда приходило христианство, обеспечивая повсюду быстрое развитие новой догматики. Ошибочно отрицать спекулятивный характер христианской веры и определять ее догматы как простую смесь народных мнений. Христианский догмат – это благородно ясное и общедоступное выражение божественно данных вечных истин. Именно потому, что его ясность – свыше, он играет столь значительную роль в области спекуляции с момента своего появления там. И именно потому, что есть постоянный прогресс в том, как человечество осознает свое единство с Богом – объективно явленное во Христе, субъективно переживаемое верующим, – христианство сочетает вечность с универсальностью.
Однако не следует заблуждаться относительно природы или границ христианских связей. Христианство, будучи самой сущностью истины, соединяется лишь с тем, что есть оно же, хотя и в иной форме. Во все эпохи оно боролось с тем, что не могло существовать вместе с ним, и всегда находило опасность в терпимости к тому, что оно осуждало, в системах религиозной философии. Как только оно, укрепленное законом, столкнулось с учениями, отрицавшими его абсолютную истину или искажавшими его основные принципы, оно восстало против этой распущенности. Не претендуя на славу создания теорий или провозглашения принципов для защиты той неспособности остановиться на истине, прилепиться к ней и возлюбить ее (что мы, возможно, слишком прославляем под именем скептицизма и критицизма), оно сурово пресекало это. И, не признавая абсолютной власти того права, которое мы ныне называем философской свободой, оно ограничивало его осуществление.
Действительно, шесть веков спустя после Рождества Христова, по повелению императора Юстиниана, христианство положило конец всему философскому преподаванию, которое шесть веков до того существовало независимо.