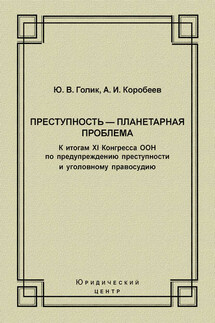Философия уголовного права - страница 25
За частной местью последовал в иных местах денежный выкуп, wehrgeld, освященный и установленный варварским законом или местными обычаями, как, например, у воинственных племен Германии; в других – религиозное покаяние, как в большей части восточных государств: в Индии, Персии, Египте и Палестине. Так как там все законы считались Божественным откровением, то всякое преступное действие считалось оскорблением, нанесенным Богу, Которого преступник должен удовлетворить. Отсюда следовало, что все прегрешения в делах богослужения, религиозной дисциплины и в правилах веры, т. е. действия, которые сами по себе не имеют ничего оскорбительного, наказывались точно таким же образом или даже гораздо строже, чем самые гнусные преступления. Волшебников, некромантов, тех, которых обвиняли в смешении крови касты, менее чистой, с кровью касты воинов и жрецов, возводили на костры; нарушителей субботнего покоя побивали каменьями, а тех, которые употребляли запрещенную пищу, наказывали розгами.
Вместе с религиозной карательностью, которая отчасти до сих пор сохранила свою силу, мало-помалу начала образовываться карательность политическая, т. е. законодательство, которое наказывало всякое преступное действие как оскорбление, нанесенное власти короля, господина или преобладающей секты. На этом-то принципе основывается конфискация. При оскорблении короля или господина имущество оскорбившего по праву переходило к ним. Королю же принадлежит имущество самоубийцы. И это совершенно естественно: он лишил законного господина своих услуг и должен поэтому вознаградить его. Отсюда и страшные наказания, к которым преступники приговаривались за деяния, известные под названием leses majestatis. Отсюда, наконец, насильственное уничтожение всего того, что могло быть опасным для привилегий господина или его приближенных слуг. Езда верхом, ношение шелкового платья или убиение кролика недворянином наказывались в прежнее время гораздо строже, чем теперь воровство, мошенничество или злоупотребление доверием.
Дух нового времени поставил на место политической карательности карательность общественную, где наказания налагаются во имя и в интересе общества. Этого одного изменения достаточно было для того, чтобы уничтожить все несправедливости и ужасы, чтобы окружить обвиненного самыми важными гарантиями, чтобы сделать задачу судьи более благородною и более достойною его, чтобы защищать самое общество более действительным образом и, наконец, чтобы вывести из употребления застенок и другие орудия пытки, которые были скорее орудиями мести, чем правосудия.
Но можно ли утверждать, что уже все сделано? Можно ли сказать, что уголовное правосудие уже достигло у нас и во всей остальной Европе последней степени совершенства? И каким образом поддерживать подобное притязание ввиду существующих еще эшафотов, каторги и рудников, отменение которых составляет еще pium desiderium, и когда смертная казнь, клеймение и гражданская смерть еще так недавно отменены? Если даже не считать общепризнанным фактом того, что наше уголовное законодательство стоит на гораздо низшей степени развития, чем гражданское, то и тогда мы должны будем признаться, что слова Боссюэта: «Вперед, вперед!», равно справедливо относятся к жизни, как и к смерти и применяются так же хорошо к усовершенствованию общества, как и к разрушению нашего бренного тела.