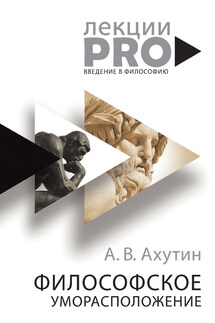Философское уморасположение. Курс лекций по введению в философию - страница 34
Я могу на этом закончить. В следующий раз мы подойдем к философии в том месте, где она, кажется, была впервые открыта, и попробуем войти в ее мир вместе с теми, кто впервые в нее входил. При входе стоит вопрос, который обычно пропускают наши историки и педагоги-водители[26]. Прежде чем входить в греческую философию, следует задать сократовский вопрос – а что, собственно, возникло? Фалес – первый философ… А кто это сказал? Аристотель сказал. Но грозные филологи нас предупреждают, что Аристотель источник малодостоверный, все на свой лад переиначивает. Тем не менее истории философии начинают с Фалеса. Если мы все же почитаем место у Аристотеля, где он называет Фалеса основоположником «этого рода» (какого?) философии, а не вообще философии, он там через две строчки будет ссылаться на Гомера и Гесиода, что примерно то же самое говорил и Гомер. Почему же нам не начинать философию с Гомера? И как все-таки относятся друг к другу «теогонии» и «философия», миф и философия? А Платон нам скажет как бы на ухо, что это не мы, греки, всё придумали, это древняя мудрость египтян. Так почему бы нам не начинать философию с Египта и не учить египетские иероглифы, вместо того чтобы читать Платона? А есть ведь еще и индийская философия, и китайская философия… Да и что за древность без своей философии? Так что же, вся эта «мудрость» входит в наше дело? А если нет, что же такое особое началось однажды в Греции?
Есть ли у нас критерий, чтобы отличить собственно философию от чего-то очень хорошего и прекрасного, но не философии? Может, философия – это что-то частное и специальное? Мудрости много, мудрость – великая вещь, а тут у нас не мудрость, тут у нас философия. Вот все эти темы мы затронем в следующий раз в связи с этой проблемой: что возникло в Греции, что мы называем философией? То есть не мы называем, а как сами греки назвали это философией и отличили ее от софии?
Лекция 3
Дисциплина свободы
Разум – причина свободы.
Фома Аквинский
Если хотите знать, что значит, во-первых, просто думать, а во-вторых, думать философски, то читайте всегда диалоги Платона. Что значит думать не о чем-то – об идеях, благе и прочем, – а вообще думать о чем бы то ни было. Как это происходит – то, что по-гречески называется «диалектике техне», а на русский переводится «искусство диалектики». Но это плохо, поскольку мы сбиты с толку тем, что знакомы с диалектикой гегелевской. Диалектика по-гречески – это просто беседа, «диалектике техне» – умение вести беседу. Какую беседу? – размышляющую, конечно, а не просто, как жить.
Вот эта беседа представлена в виде сократических диалогов Платона. Форма, в какой существо думающее может втянуться в такое думание, которое становится философски значимым, вот она – раз и навсегда: сократическая беседа. Можно было бы провести такую филологическую работу и показать, что что-то вроде сократического диалога скрыто во всех фундаментальных философских трактатах. В XX веке, если вы возьмете, например, Мартина Хайдеггера, человека чрезвычайно монологического и особо ни с кем не разговаривающего, или Жака Деррида, мыслителя весьма общительного, и посмотрите, как устроены их тексты, увидите постоянное задавание вопросов самому себе и ответ на них. При заранее настроенном внимании мы откроем эту сократическую подоплеку философской мысли. Это универсальный и общий совет: читая любой диалог Платона, даже «Законы», которые просто дидактика и никакого разговора, всё равно вы увидите, что форма разговора для Платона крайне важна. Вот так и мыслят в философии – разговор с самим собой.