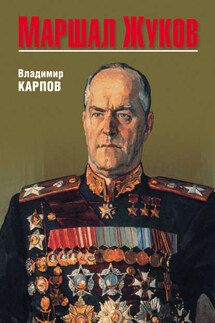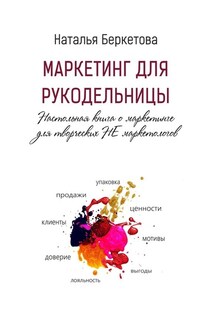Генералиссимус - страница 94
В основном процессы были направлены прежде всего против самой крупной фигуры – отсутствовавшего обвиняемого Троцкого. Главным возражением против процесса являлась недостоверность предъявленного Троцкому обвинения.
«Троцкий, – возмущались противники, – один из основателей Советского государства, друг Ленина, сам давал директивы препятствовать строительству государства, одним из основателей которого он был, стремился разжечь войну против Союза и подготовить его поражение в этой войне? Разве это вероятно? Разве это мыслимо?»
После тщательной проверки оказалось, что поведение, предписываемое Троцкому обвинением, не только не невероятно, но даже является единственно возможным для него поведением, соответствующим его внутреннему состоянию.
Троцкий бесчисленное множество раз давал волю своей безграничной ненависти и презрению к Сталину. Почему, выражая это устно и в печати, он не мог выразить это в действии? Действительно ли это так невероятно, чтобы он, человек, считавший себя единственно настоящим вождем революции, не нашел все средства достаточно хорошими для свержения «ложного мессии», занявшего с помощью хитрости его место? Мне это кажется вполне вероятным.
Мне кажется также вероятным, что если человек, ослепленный ненавистью, отказывался видеть признанное всеми успешное хозяйственное строительство Союза и мощь его армии, то такой человек перестал также замечать непригодность имеющихся у него средств и начал выбирать явно неверные пути.
…Он великий игрок. Вся жизнь его – это цепь авантюр: рискованные предприятия очень часто удавались ему.
Русским патриотом Троцкий не был никогда… Что же являлось и является и ныне главной целью Троцкого? Возвращение в страну любой ценой, возвращение к власти».
Далее писатель, хорошо информированный о политической ситуации на Западе, пишет о том, что Троцкий не только активизировал своих сторонников в Советском Союзе, вплоть до террора и подготовки физического уничтожения Сталина и его сторонников, на сотрудничество с фашистами, он вместе с ними готовил «пятую колонну» для ослабления СССР перед войной и нанесения ударов в тылу, когда начнется война.
Фейхтвангер далее продолжает:
«Что касается Пятакова, Сокольникова, Радека, представших перед судом во втором процессе, то по поводу их возражения были следующего порядка (возражения у писателя. – В.К.): невероятно, чтобы люди с их рангом и влиянием вели работу против государства, которому они были обязаны своим положением и постами…
Мне кажется неверным рассматривать этих людей только под углом зрения занимаемого ими положения и их влияния. Пятаков и Сокольников были не только крупными чиновниками. Радек был не только главным редактором «Известий» и одним из ближайших советников Сталина. Большинство этих обвиняемых были, в первую очередь, конспираторами, революционерами, бунтовщиками и сторонниками переворота – в этом было их призвание… К тому же они верили в Троцкого, обладавшего огромной силой внушения. Вместе со своим учителем они видели в «государстве Сталина» искаженный образ того, к чему они сами стремились, и свою высшую цель усматривали в том, чтобы внести в это искажение свои коррективы.
Не следует также забывать о личной заинтересованности обвиняемых в перевороте. Ни честолюбие, ни жажда власти у этих людей не были удовлетворены. Они занимали высокие должности, но никто из них не занимал ни одного из тех высших постов, на которые, по их мнению, они имели право; никто из них, например, не входил в состав Политического бюро. Правда, они опять вошли в милость, но в свое время их судили как троцкистов, и у них не было больше никаких шансов выдвинуться в первые ряды. Они были в некотором смысле разжалованы, а «никто не может быть опаснее офицера, с которого сорвали погоны», – говорит Радек».