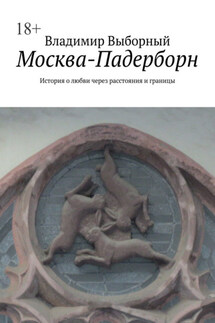Германия: философия XIX – начала XX вв. Сборник переводов. Том 1. Причинность и детерминизм - страница 36
Но не является ли наш взгляд на отношения между мыслью и фактами, между разумом и опытом способом взгляда на вещи, который оставляет факты и опыт нетронутыми, но который, будучи изобретением разума, выходящим за пределы своего естественного предела – опыта, должен оставаться вечно недоказанным и недоказуемым? Мы так не считаем. Напротив, такой взгляд представляется нам с необходимостью вытекающим из вполне определенного и твердо установленного факта. Этим фактом является изменчивость человеческого разума, чему история человечества предлагает самые разнообразные доказательства на всех своих страницах. Общим для всех людей является определенный базовый запас опыта и фактов, а также то, что они познают одинаковым образом, а именно через чувственное восприятие, свое или чужое, и через внутренний опыт. Понимание этого легко достигается, или, скорее, оно присутствует с самого начала, как только что-то признается как опыт или факт. То, что выходит за рамки этого, – продукты мысли, которые в разное время и у разных народов различны и часто носят характер произвола. Это относится прежде всего к общим понятиям искусственных классов и, возможно, в еще большей степени к искусственным причинам, полученным путем индукции. Однако особенно ярко проявляется изменчивость понятия причины и произвольность понятия вещи. Познавательная ценность всех этих образований равна нулю и не может быть больше в силу их изменчивости и произвольности.
Но совсем иначе, чем познавательная ценность, выглядит их значение для практических целей человеческой жизни. И здесь становится совершенно ясно, что подлинная цель всех этих образований – вовсе не познание, а именно содействие собственному благополучию и благополучию вида, или, как можно кратко сказать, жизни. Человек должен приспосабливать себя к своему опыту, к своим условиям и обстоятельствам, приводить себя в гармонию с ними, он должен приспосабливаться к своему миру, чтобы сохранять и развивать свою жизнь и жизнь своего вида. Поэтому он устанавливает одно переживание как знак наступления другого и таким образом готовится к предстоящим явлениям; поэтому он рассматривает составное восприятие или группу восприятий иногда как единую вещь, иногда как множество вещей; поэтому он объединяет свои переживания, по мере того как они становятся все более многочисленными и разнообразными, в искусственные классы с помощью общих понятий и в искусственные причины с помощью индукций. Разум, таким образом, во всех этих образованиях находится на службе и под властью целей жизни. Его цель не в том, чтобы расширять и увеличивать знания, а в том, чтобы сделать жизнь как можно более безопасной и приятной.
Поэтому мы повторяем, что все эти продукты мысли не имеют познавательной ценности. На самом деле это должно быть понятно. Ибо как общие понятия искусственных классов и понятия искусственных причин имеют для нас смысл и значение лишь постольку, поскольку они относятся к тому конкретному, что они обобщают, и постольку, поскольку мы используем это конкретное для них, так и понятия «вещь» и «атрибут», «причина и следствие» являются лишь формами, в которые мы облекаем наш опыт, и ничего не добавляют к содержанию нашего познания. Именно переживания имеют значение, они составляют все содержание нашего познания.
Но где же тогда честь хваленого прагматизма историка, который ставит своей задачей исследование причинно-следственных связей? Мы узнаем эти причинно-следственные связи либо непосредственно из опыта других людей по их сообщениям, либо косвенно, путем умозаключений. Неудивительно, что мы считаем связи, которые мы кропотливо умозаключили путем размышлений, более ценными, чем те, которые мы узнаем непосредственно из сообщений, но не поэтому эти умозаключенные связи по своей сути более ценны, чем те, которые мы узнаем непосредственно. Шюте убедительно показывает, что и почему при установлении причинно-следственных связей мы предпочитаем сделать причиной скрытый и труднодоступный атрибут, а не очевидный и легко узнаваемый, и что нас никоим образом не побуждает к этому предпочтению сам вопрос. Поэтому объективно скрытые и трудноуловимые причины никак не могут быть более ценными, чем очевидные и легко узнаваемые. Прагматизм объединяет ряд сходных явлений, в которых он предполагает действительно общий признак, и таким образом создает искусственный класс или искусственную причину. Отдельные явления составляют не только необходимое условие, но и единственное мерило ценности этих искусственных классов и причин. В истории также нельзя приписывать мыслям никакой самостоятельной ценности, помимо фактов.