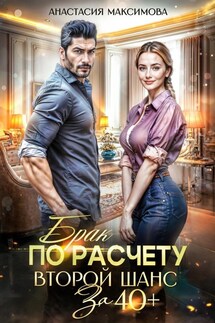Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 7. Материализм. Часть 2 - страница 17
Решающие мотивы, побудившие этих мыслителей и их последователей продвинуться дальше позиции Кеплера, в отношении которой, вероятно, возможна строго математическая трактовка, могут быть кратко сформулированы в двух формулах. Научное исследование оправдывает себя тем, что мы считаем воплощение реальности, которую мы представляем посредством механической системы, бескачественным бытием по аналогии с последней, во-первых, потому, что качества в ней совершенно излишни и их допущение не имеет никакой объяснительной ценности, и, во-вторых, потому, что, объективно понятые, они представили бы нечто непостижимое для человеческой мысли, не постижимое в соответствии с принципами теоретического воображения.
Экономичность любой науки требует, чтобы предпосылки, на которых она основывается, были сведены к минимуму. «Non est ponenda pluralitas sine necessitate» [Излишне делать с помощью большего то, что можно сделать с помощью меньшего. – wp] – это предложение, которое приобрело универсальное значение для современных исследований, выходящих за рамки теории познания Оккама и кругов терминологической логики. Но как бы бесспорно ни считался этот принцип первым методологическим принципом всякого осторожного объяснения, требующего гипотетических элементов, он, однако, не допускает общего применения без дальнейших рассуждений; только доказав в каждом случае, что минимальное число посылок достаточно для объяснения данных фактов, можно вывести следствия в отношении избыточных элементов. Теперь научное воображение, когда оно выводит из материала чувственного восприятия мир экзистенций, посредством которых они производятся в наших органах чувств, имеет открытое поле для построения субстратов видимости, при одном лишь условии, что сосуществование и последовательность переживаний должны быть полностью ими определены. Поэтому мы можем с полным правом требовать, чтобы в объяснительный контекст включалось только то, что служит этой цели. Но опять-таки следует подчеркнуть, что в этой связи еще не было сделано никакого определенного вывода относительно характера и способа существования самих чувственных образов.
Декарт, правда, исходил из предположения, что мир чувств изначально дан лишь как некий феномен сна в моем «я», который требует объективного основания. Но уже Гоббс и Бойль ясно осознали чисто фиктивный характер этого предположения и подчеркнули, что в любом случае эпистемологическая саморефлексия недостаточна для его обоснования. Если теоретическое конструирование природы начинается с этой фикции, это не вызывает беспокойства до тех пор, пока мы осознаем ее только как технический прием. Но если принять во внимание факт самих чувственных образов, если задуматься о тотальности природных событий, включая разумные организмы и их органы, то принцип наименьшего числа объяснительных причин теряет свою прекрасную методологическую ценность. Ибо допущение чистой субъективности содержаний органов чувств означает сокращение предпосылок только в отношении мыслимости объектов, от которых исходят стимульные воздействия на наши органы; в отношении связи между стимулом, сенсорным восприятием и чувствующим индивидом оно столь же позитивно и богато по содержанию, как и контр-утверждение. С этой точки зрения речь идет уже не о том, чтобы предположить большее или меньшее число гипотетических элементов или свойств для объяснения факта, а лишь о том, как расположить элементы в этом факте. Если Декарт