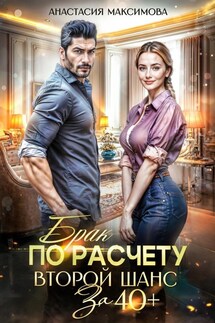Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 7. Материализм. Часть 2 - страница 20
В XVII веке тот же ход мысли был выражен в другой формуле. Опыт учит, что большая часть стимулов, воздействующих на организм, – это движения и ничего, кроме движений, и тем не менее они вызывают у воспринимающего эффект, совсем не похожий на стимул. Это очевидно, как отмечают Галилей, Бойл и Локк,36 в случае, когда внешнее прикосновение вызывает ощущение удовольствия, щекотки или боли. Далее, научная мысль показывает, что по аналогии с этими случаями все другие стимулы, которые вызывают у нас ощущения звука, света и т. д., также могут быть истолкованы как процессы движения. И здесь переживаемый эффект полностью отличается от движения, которое предполагается как причина; действительно, это понимание имеет огромное значение для прогресса знаний, поскольку оно является основой для любого рационального объяснения процесса восприятия. Из этой предпосылки, однако, неизбежно следует, что качествам должно быть отказано в каком бы то ни было существовании. Ведь высшая теорема умозаключения, строго сформулированная Декартом37 и прежде всего Гоббсом38, требует, чтобы следствие было равно причине. Соответственно, мы не можем думать, что движение порождает нечто иное, чем движение. Таким образом, идеал замкнутой причинно-следственной связи движения предполагает исключение качеств в каждой точке природной реальности. Если бы мы действительно могли, как мы думаем, проследить процесс движения от объекта через сенсорный аппарат к центральному органу и обратно, мы бы нигде не нашли его прерванным вмешательством фактора, который можно было бы описать как ощущение, как качество: причинная связь идет от движения к движению. Исторически сложилось так, что этот идеал механики, охватывающей весь мир, сегодня так же далек от воплощения, как и в те времена, когда он только зарождался. Действительно, можно было бы сказать, что по мере развития знаний идеал «астрономического» познания материального мира все дальше и дальше отодвигается на задний план. Не только открытие больших областей природы, совершенно неизвестных в XVII веке, таких как электромагнитные явления, привело к появлению результатов, которые, чем тщательнее их исследуют, тем более независимыми они оказываются, не только природа органических процессов все еще не хочет быть полностью объяснена процессами движения: в любом случае, существует строгая наука, в которой логическое требование, из которого возникла идея мировой механики, не было выполнено, по крайней мере, в настоящее время. Основной закон химии гласит, что встречающиеся в природе тела можно разделить на группы или типы веществ, обладающих определенными свойствами. Остается выяснить, можно ли считать эти вещества, как показывают некоторые закономерности между их составными весами или другие недавние опыты, спецификациями первозданного вещества и можно ли выразить в механических терминах признанные до сих пор свойства элементов: Важно то, что до сих пор не удалось вывести свойства химического соединения из свойств его компонентов. Химические процессы характеризуются изменением существенных свойств, свойства исчезают, а на их место приходят новые. Мы лишь признаем фактические пределы наших современных знаний, когда признаем, что результат превращения веществ, происходящего на наших глазах, не может быть определен из их элементарных свойств. Атомно-молекулярная гипотеза, какой бы плодотворной и эффективной она ни оказалась в других отношениях, пока не смогла приблизить нас к решению этой загадки. Мы не хотим преуспеть в представлении о постоянстве элементов, характеризующихся суммой своих свойств, в соединении, потому что в нем мы обычно встречаем совершенно новые свойства. «Скорее, это сохранение, – выражается Оствальд в терминологии, почти напоминающей аристотелевские формулы, – ограничивается исключительно возможностью извлечения элемента из каждого его соединения в неизменном количестве».