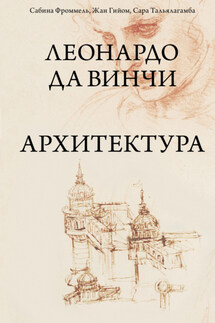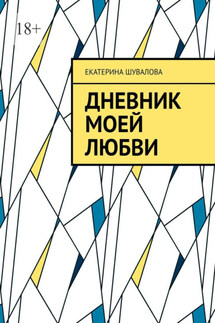Германская модель военных реформ - страница 3
В исследуемой области его режим воспользовался «наследием» Веймарской республики не только во внешнеполитическом, но и военном отношениях. В середине – второй половине 1930-х годов была проведена глубокая реформа «военной машины» Германии, которая частично использовала задел, созданный в период Веймарской республики (в частности, в теории развёртывания и применения крупных танковых и моторизированных соединений). С точки зрения качества войск военные успехи нацистской Германии, чьи вооружённые силы до ноября 1942 г. являлись сильнейшими в мире, оказались обусловлены высокой эффективностью военной реформы 1935 – первой половины 1941 г. Третий рейх, как никакая другая форма национальной немецкой государственности, вплотную подошел к утверждению в статусе сверхдержавы – вне советско-германского фронта ни одна другая страна (включая лагерь «западных демократий») не могла в военном отношении одерживать крупномасштабные успехи над вермахтом, что во многом явилось результатом правильных ответов командования последнего на вопросы перспективной военной организации и использования войск в ходе предвоенной реформы вооружённых сил. По сути, единственным, но оказавшимся фатальным, препятствием на пути первоначальных блестящих успехов вермахта оказалось сопротивление РККА и советского народа в целом.
Примечательно, что как и в период Первой мировой, в ходе Второй мировой войны наблюдался не только огромный количественный «скачок» в численности войск (по сравнению с довоенным временем), но и оснащение их массой тяжёлых вооружений качественно нового уровня, о которых в принципе не шла речь в ходе самой военной реформы. Однако, несмотря на это, её результаты постепенно растрачивались в том отношении, что уровень слаженности и продуктивности действий «военной машины», воинского искусства на всех уровнях стал все более стремительно отставать от противников. Прежде всего, это проявилось в перехвате стратегической инициативы и обратном дисбалансе (т. е. уже в пользу Красной Армии) на советско-германском фронте между ноябрем 1942-го и маем 1945 г. Во многом утраченный потенциал реформы второй половины 1930-х годов стал причиной полного военного разгрома и безоговорочной капитуляции Третьего рейха в мае 1945 г.
Данный весьма печальный и одновременно поучительный исторический опыт не мог не отразиться на характере подходов к использованию «военной машины» ФРГ – тем более что на протяжении всей своей политической истории она стремилась последовательно подчеркнуть глубокие отличия от Третьего рейха во внутренней и внешней политике. Историческая ответственность за агрессию определила, во-первых, отказ от развёртывания бундесвера за пределами государственных границ ФРГ – де-факто он сохранялся до 1991, де-юре – до 1994 г.[12] Этот рубеж – время, когда уже объединённая ФРГ стала использовать свои войска как вне зоны ответственности НАТО (в основном для борьбы с угрозами нестабильности, особенно исходящими из зон вооружённых конфликтов), так и внутри неё (в военно-тренировочной деятельности и демонстрации присутствия). Во-вторых, это стремление истеблишмента ФРГ минимизировать число случаев боевого (силового) применения бундесвера. В годы предшествующей «холодной войны» такая возможность де-юре допускалась только в случае перерастания конфронтации в «горячую». В условиях крушения постбиполярного миропорядка германские вооружённые силы стали использоваться в силовых операциях несколько шире: дважды (1995; 1999) силы люфтваффе были задействованы в военно-воздушных операциях НАТО на постюгославском пространстве, что стало важным фактором утверждения ФРГ в положении региональной державы. В XXI в. несколько раз наличествовало точечное боевое применение сил специальных операций (ССО), притом не декларируемое официально, в зонах боевых действий на Среднем и Ближнем Востоке (Афганистан в начале 2010-х годов, Сирия и Ирак в середине 2010-х годов