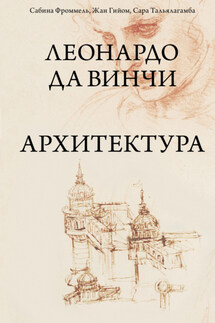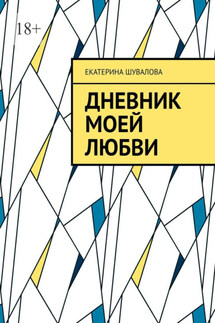Германская модель военных реформ - страница 4
Однако наличие данных ограничений (де-юре и в значительной степени де-факто носивших форму добровольных) отнюдь не означало отказа ФРГ от создания и развития своего военного потенциала в принципе. Он был важен как значимое, хотя и не особенно подчёркиваемое (что тоже являлось своеобразным ограничением), подтверждение державных амбиций Боннской (1949–1999), а затем и Берлинской (с 1999 г.) республик[16]. Иллюстрация этого – проведение между 1949 г. и серединой 2010-х годов трёх военных реформ, направленных на воссоздание и совершенствование одной из передовых «военных машин» в мире. Притом важно подчеркнуть важнейшее внешнеполитическое отличие преобразований войск в ФРГ от осуществления этих шагов в германо-прусском и прусском государстве. Наличие отмеченных выше ограничений (которые неизбежно учитывались при планировании и проведении реформы) сочеталось с органичным интегрированием Федеративной Республики Германии в состав Евро-Атлантического сообщества в целом и круг «западных держав» (США, Великобритания, Франция) в особенности.
Как уже отмечалось, впервые попытка усилить военную мощь (проводя прообраз самой военной реформы) была предпринята Веймарской республикой в широком контексте сближения с лагерем «западных демократий». Однако, в отличие от Г. Штреземана, К. Аденауэр сумел успешно завершить оба данных процесса, тесно их переплетя между собой. Так, в период Веймарской республики её вооружённые силы в принципе не мыслились как часть некоего многонационального военного союза, хотя британский экспедиционный корпус и бельгийская армия были связаны тесными узами с французской «военной машиной» в Первую мировую, межвоенный период и первые месяцы Второй мировой – до капитуляции Третьей республики[17]. Качественно иная ситуация сложилась в начале 1950-х годов: старт воссоздания «военной машины» Западной Германии предваряли длительные переговоры К. Аденауэра, последовательно позиционировавшего планировавшийся к созданию бундесвер в качестве органичной части общеевропейских (особенно когда речь о возможности реализации «Плана Плевена»), а затем общесоюзных с партнерами по НАТО вооружённых сил[18]. Результатом этого стала исключительно высокая степень интегрированности бундесвера в Североатлантический альянс. Этот показатель оставался значительным (хотя и несколько уменьшаясь) в 1990-е – 2010-е годы[19]. Истеблишмент ФРГ стремился продемонстрировать приверженность западным демократическим ценностям и правилам поведения, устанавливая многоуровневый независимый контроль над развитием «военной машины». Внутри страны его осуществлял Бундестаг (соответственно, обретший де-юре необходимые инструменты контроля над использованием войск и вне зоны ответственности НАТО с 1994 г.