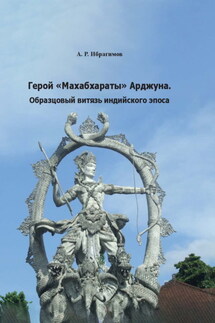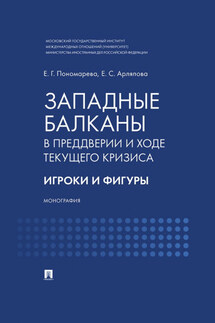Герой «Махабхараты» Арджуна. Образцовый витязь индийского эпоса - страница 12
Вскоре после обретения потомства Панду не устоял против чар прекрасной Мадри и умер в момент соития во исполнение проклятия отшельника. Мадри взошла на погребальный костёр мужа, а Кунти с пятью сиротами вернулась в столицу Кауравов. Отныне Арджуна вместе с братьями попадает в обширную категорию фольклорных героев-безотцовщины с особой ролью матери (вспомим Добрыню русских былин, Лемминкяйнена финского эпоса) и взрослением при дворе/в семье владетельного дяди (Кухулин ирландских саг, Беовульф англосаксонской поэмы, Вивьен и Бертран французских жест о Гильоме, Мордред бриттской и Тристан бриттской и бретонской традиций). В результате Кунти суждено стать водительницей юных героев, и именно в этом качестве вдовая царица по пророчеству будет прославлена подвигами Арджуны (vide supra).
4. Воспитание. Первые богатырские свершения
«С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля»
Александр Пушкин«Капитанская дочка»
Те персонажи героической поэзии, чью жизнь сказание считает нужным излагать с раннего детства (а это не всегда так – вспомним Роланда, Илью Муромца или Ахилла «Илиады» с жизнеописаниями in medias res), имеют быть явлены аудитории в соответствии с известным каноном, представляющим собой набор универсальных эпических мотивов, составляющих комплекс героического детства героя. В этот набор могут входить сюжеты воспитания, обретения оружия, первого подвига. Указанный канон настолько важен, что соответствующие сюжетные звенья или независимые поэмы могут присочиняться к песням о подвигах зрелого и ставшего популярным героя задним числом (e.g., поздняя в цикле жест о Гильоме Оранжском поэма «Отрочество Гильома»). Часть подобных мотивов мы уже упомянули и некоторые иллюстрировали – это различные пророчества и знамения, предсказывающие появление героя и, с различной степенью детализации, его грядущие подвиги и судьбу. Далее следуют мотивы сверхъестественно быстрого взросления [«…Минуло ему шесть лет, и был он тогда не менее тех, которым было двенадцать зим, и не слабее их» («Сага о Финнбоги Сильном», IV. М. 2002)] и/или превосходства над сверстниками. Возможно и противоположное отклонение от нормы, то есть задержка в развитии, пример – презираемый соплеменниками увалень Беовульф или Греттир, о котором сага прямо сообщает: «Греттир сын Асмунда был пригож собою… Ребёнком он отставал в развитии» («Сага о Греттире», XIV. Н. 1976). Затем следуют мотивы проявления особых способностей, обретения оружия, первых подвигов и наречения «взрослым» именем. Каждый из этих эпических мотивов, взятый в отдельности, факультативен, но какой-то их набор, составляющий картину героического детства, как правило, присутствует в повествовании о младенчестве или юности героя. Один из указанных мотивов может конструировать ситуацию, порождающую зависть или соперничество юных героев (e.g., первый подвиг, первое состязание, проба оружия). В таких случаях так же рано закладывается и будущий центральный конфликт, который определит судьбу героя и послужит основой сюжета сказания.
Раннее проявление задатков эпического героя может принять форму и благородных свершений (спасения/защиты попавшего в беду), и