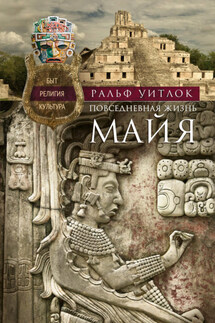Глазарий языка. Энциклопедия русского языка, меняющая представление о справочной литературе - страница 28
(Исаченко А.В. Если бы в конце XV века Новгород одержал победу над Москвой (Об одном несостоявшемся варианте истории русского языка) // Вестник РАН. 1998. № 11)
Ответ:
Приведенная фраза про букву Ж настолько нелепа, что не может не насторожить даже тех, кто имеет весьма смутное представление об истории русского языка. Что же не так с буквой Ж, которая, как нетрудно убедиться, не только вошла в состав первоначальной славянской азбуки, но и встречается во многих сверхчастотных восточнославянских словах, ср. хотя бы «жизнь», «жити», «животъ» (да и, простите, «жопа» туда же – как справедливо заметил один из комментаторов)?
Парадоксально, но, чтобы правильно распознать, что же хотел сказать автор, вовсе не обязательно знать собственно историю языка, достаточно быть знакомым с издательской практикой советских времен, когда в некоторых изданиях (слава богу, не во всех) буквы старой кириллицы по техническим причинам передавали прописными буквами современного алфавита. Так, букву Ъ (ять) передавали как Ь, букву А (юс малый) как Я, ну а буквой Ж передавали Ж (юс большой).
Именно об этой букве идет речь у А.В. Исаченко. Она обозначала в эпоху Кирилла и Мефодия носовой звук [о], но затем носовые были утрачены почти во всех славянских языках, и в древнерусском языке эта буква действительно не имела «фонологического оправдания» уже в эпоху начального распространения письменности. Это привело к ее утрате. В конце XIV – середине XV века, в эпоху так называемого второго южнославянского влияния – время архаизации и славянизации книжно-письменной культуры Московской Руси, юс большой вновь появляется в текстах как знак древности и высокого стиля (об этом и пишет автор), но и это его пришествие не было удачным. Надолго он не задержался; современный церковнославянский алфавит, например, включает в себя много букв первоначальной кириллицы, в том числе и юс малый (А), но юса большого среди них нет.
В конце 1990-х годов, когда «Вестник РАН» перепечатал статью Исаченко, впервые опубликованную в 1973 году, появление Ж вместо Ѫ в журнале, не рассчитанном на специалистов в области исторической русистики, нельзя расценивать иначе как вопиющий недосмотр или непрофессионализм.
Однако статья Исаченко любопытна не только этим редакторски-издательским курьезом. Александр Васильевич Исаченко, яркий представитель зарубежной русистики XX века, родился в Петербурге, но уже семилетним мальчиком вместе с родителями покинул родину и всю жизнь прожил за границей – в Чехословакии и Австрии. (Между прочим, он был женат на старшей дочери Н.С. Трубецкого.) Его статья о Новгороде и Москве написана очень задорно, и это ее главное достоинство – вполне, впрочем, достаточное, чтобы статью прочитать (ее легко найти в Интернете).
По мысли Исаченко, если бы в XV веке русские земли объединились под властью Новгорода, а не Москвы, все было бы хорошо. Новгород был свободным (не был разорен монголами), образованным, широко контактировал с Европой, культивировал деловую письменность, тяготел к ереси протестантского толка. Новгородская Русь в таком случае пережила бы свою Реформацию, Библия была бы переведена на живой русский язык, книжно-письменный язык сближен с разговорным, появилась бы основа для развития светского, внецерковного распространения знания, восторжествовала бы идея личной свободы и все было бы как в странах просвещенного мира.