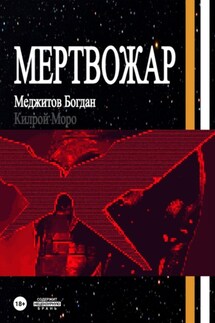Год Крысы - страница 18
– Помню такой, – обрадовалась черная голова своей памяти. – Там еще работал Шурик, который Иннокентия бил по пьяни, помните?
– Возможно, – заткнул я черную голову. – А потом как-то скучно стало танцевалки всякие делать, начали осмысленно подходить к сочинению, продумывать досконально каждый звук, искать сэмплы.
– Евгений, – обратилась рыжая голова, – а к чему вы музыку писали?
– Да много к чему. Друзья сочиняли пьесы, ставили, а мы под их игру наводили шума. Из публичного… Хм, наверное, фильм «Манту», который потом в Канны собирался поехать, но не доехал. Для «Золушки» Васильева, того, что из Ижевска. С местными я особо не работал, не сложилось. До этого, когда на заработках в Томске был, работал с Леонидом Экстером.
– Тот, который «Стаю маленьких утят» ставил? – оживилась светлая голова.
– Ага.
– Стоп-стоп, то есть вы тот самый Алеев? – рыжая голова поднялась вслед за черной. – Премия фестиваля «Браво!» в… каком-то там году.
– Да, в каком-то там, – кивал я, по лодыжкам пробежали мурашки – очень неприятно, когда за тебя вспоминают то, что ты давным-давно забыл. – На самом деле, я не хвастаюсь сейчас, если что. Мне много премий пытались присудить.
– А вы не принимали?
– Премии не принимал.
– Почему? – удивилась светлая голова.
– Если честно – постановки были кошмарные. Звали писать музыку, просили в процесс вливаться, комментарии давать по пьесам, а на деле – говно полнейшее. Тычу пальцем – это туфта, это бред, это графомания. Ну а те, соответственно, обижались, говорили: «Иди свои ручки крути и струны дергай». На люди выходило то, что вы видели, а могло выйти лучше.
– Но это неплохие пьесы. Что «Золушка», что «Подружки»…
– Они никакие. – я поднял голос с живота. – Абсолютное разочарование для композитора, когда людей загоняют смотреть на дерьмо, а под это еще и его музыка играет. Я же видел, как в зале люди морщились – потому что сгнило все с головы – и от этого музыка тоже провоняла. А она тут при чем, если автор спектакля конченный?
– Хорошо, – светлая голова разочарованно посмотрела на меня, – а что, скажем так, из вашей практики, было самым-самым?
– То, что никто не видел, – ответил я. – Ну, или никто не знает.
– Не понимаю, – черная и рыжая голова задумались; их лбы болели от непонимания.
– Потому что это я слышал и я сделал. Никто ничего про это не скажет, а потому оно – самое лучшее. Поспоришь – как поспоришь? То, что выходит на показ слушателю, оно со временем ветшает, анализируется, прогоняется через тысячи голов. Перестает быть музыкой, становится какой-то потаскухой.
– То есть ваш памятник – это потаскуха?
– Мой – это плющ. К нему никто не лезет, в него случайно падают, и ожог долго не проходит. Чешется, а чесаться-то приятно. И не памятник это вовсе. На мой голуби не гадят, не видят и не понимают.
Они еще долго расспрашивали меня, пытались понять, зачем же мне это удобное и якобы почетное место. Отвечал уклончиво, абстрактно, ибо сам не мог понять. Была возможность, был шанс – таких в жизни шансов тысячи – разок можно и схватиться за него. Что бы вы внесли нового в театр, как бы вы работали с коллективом, кто для вас является примером для подражания, над чем вы сейчас работаете… Ох, пакостные головы, в чьих извилинах заложены единственные правильные ответы. Ждут их от меня, да не услышат. Виднелась в них надежда, что я – маленький и неизвестный – тот самый, кто выведет их из вчера в сегодня, но – увы – они покрылись отсветом чужой печали.