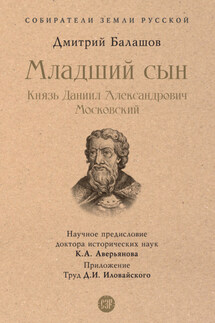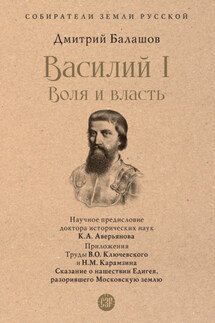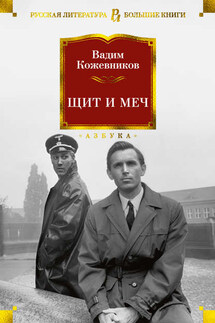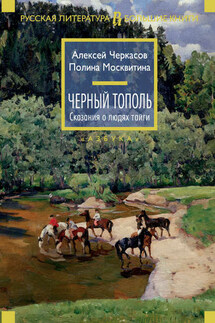Господин Великий Новгород. Марфа-посадница - страница 2
На последние куны в Плескове соль купили. Сюда вот и возвращались, на почернелое, пустое место. Радько рассказывал Олексе о том не один раз: привезли соль, а класть негде, ни двора, ни амбара, ничего. И людей никого – один верный Радько, отца и мать похоронив, остался, не изменил. Обнял его Творимир и зарыдал.
Соль была дорога в то лето, на соли кое-как и поправились…
Родной дом! Сколько же связано с тобой!
Здесь, в тот год, когда князем стал Олександр Ярославич, в новоотстроенном тереме родился Олекса.
Здесь он играл в бабки да в рюхи с мальчишками, бился на мечах деревянных; отсюда отроком малым совершил свой первый путь во Владимир.
Здесь зарывали серебро, молились и ждали смерти, когда на русские земли с юга надвинулась рать неведомая и окровавленный ратник на торгу сказывал горожанам беду, моля о помочи…
Пали Рязань, Коломна, Владимир. Иноплеменники ни для кого не делали различия: черные люди, бояре, иереи, монахи, князья, мужи, жонки, дети – все гибли равно под саблями и копытами коней. Бесславно легла на Сити рать великого князя владимирского. Пали Москва, Переяславль, Юрьев, Дмитров, Волок, Тверь… Мало за сто верст не дошли злые татарские кони до Великого Новгорода. В феврале татары оступили Торжок. Две недели держался город, тщетно ожидая новгородской подмоги, и в марте пал. Татары иссекли всех мужиков и жонок, как траву. Затем, Серегерским путем, устремились к Новгороду. Дошли до Игнача креста, но Бог и святая великая соборная церковь новгородская, София, заступились за свой город. Уже раскисали пути и болота набухали водой. Татары повернули назад.
Отсюда хмурый отец Олексы уходил, наточив меч, на рать, к Чудскому озеру. Здесь он молился, прослышав про чудо во Плескове (от иконы Спаса над гробом невинно убиенной в Медвежьей Голове княгини Ярославлей стало течь миро и наполнило четыре стеклянницы). Ужас охватил многих, кто еще тайно сочувствовал изменникам. И еще раз Бога благодарил Творимир, что не поддался уговорам, не ушел в Медвежью Голову тогда. Падая на колени, творил горячую молитву перед иконой Спаса: «Господи, не попустил еси, не отринул отчины своея!»
Здесь шестнадцать лет назад веселым пламенем пылало отцово хоромное строение и все их тяжкими трудами нажитое добро. Старый Творимир кидался в огонь, а ничего не спас, обгорел только. Не перенес новой беды, сломался, заболел. Олекса же, посвистывая, сам взялся за топор, – не на что было нанять и плотников. Тогда и научился звонкому плотницкому делу. Кое-как поставили клеть на пепелище. Поставили, и ушел Олекса в свой первый поход – к Торопцу.
Сюда возвращался он из второго похода, с Наровы, и еще под городом узнал про смерть отца.
Тут он разделился с братом Тимофеем, не спорил, верил в себя. С детства все давалось легко, без думы, без натуги. Торговал, воевал, стоял и с князем и против князя. Тяжела была рука у Олександра, тяжела и для бояр и для купцов, а всего тяжелей для простой чади.
Стоять-то стояли против князя, а со многими пришлось согласиться потом. И тамгу татарскую приняли, и десятину. Сам князь Олександр на том настоял и дань собрал татарам, будто свои стали чужие, а чужие – свои… Тут и не хочешь, а думать пришлось. Научился хмуриться Олекса, рука чаще – невольно – искала меча.
Время было неверное, мятежное, только поворачивайся.
В эту пору женился он. Жена была молода, по шестнадцатому году взял. Первый сын умер, мало и на руках подержать пришлось. Потом родилась дочь, Янька.