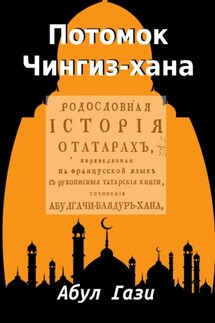Говорит Ленинград - страница 39
А Юра прочел мой дневник, говорит, что будто бы только от 1/VI, и было объяснение. А-ах, господи, как это все мучительно. Я понимаю, что ему тяжело оттого, что я тоскую о Коле, я бы, наверное, просто не смогла жить с ним, если б у него было так, как у меня, но что же я могу поделать?!
Его борьба с Колиной памятью томит и мучит меня еще потому, что книгу стихов, самую лучшую, самую мою, которая должна быть, – я обязательно хочу посвятить Колиной памяти. Я буду еще писать о нем, если б удалось мне выразить это в слове – какой он был добрый, прекрасный НАШ человек… Что ж, Юрка будет страдать из-за этого, – ведь не хочу я причинять ему боли и не могу не помнить Колю всем сердцем.
Но вчера был удивительный вечер: Юрка купил по дороге большой пучок березовых веток. Мы принесли их, поставили в комнате, а окно было открыто настежь, видно было тихое, могучее небо, прохладный ветер веял в окно, в городе было очень тихо – и так пахло березой, так пахло, что вся жизнь, самые счастливые дни ее ожили во мне и – в чувстве – шли через душу счастливо, страстно, ликующе. Вечера, сырые и пахучие, в Глушино, в детстве; наш самый первый вечер с Колей на Островах, где он первый раз поцеловал меня – молодой, красивый, – а я была в вышитой русской рубашке, – там тоже пахло березой, так же, как вчера. И я жила той неясной, томительной отроческой тоской глушинских вечеров, и ясной, слепящей радостью вечера на Островах, и теперешним вечером – этой минутой тишины и радости, когда около лежал красивый, любящий мой теперешний муж, и я ощущала всем существом, что это счастье – что он лежит сейчас около меня и любит меня, и я люблю его, и тихо, и пахнет, пахнет, пахнет свежей березой. Все это сливалось в одно, без боли, вернее, со счастливой болью – все это было счастье, то есть жизнь, все это было неистребимо, прекрасно и едино. Если б мне удалось выразить это, наверное, я написала бы гениальное произведение. Но это невыразимо, это, наверное, тайна, которую нельзя выразить. Так ясно было душе, что нет времени, нет горя, что жизнь – и есть счастье, что высший мой день – сегодняшний, вообще – каждый день жизни – и есть высший ее день; но все же, может быть, высший день именно был вчерашний вечер, высшая жизнь – теперь, потому что у меня уже так много накопилось счастья – опыта жизни, потому что у меня уже ЕСТЬ ЧЕМ ЖИТЬ – и детством, и сияющей любовью с Колей, и сегодняшней любовью, и предчувствием, основанным на опыте, – что счастье будет. И это ощущение слиянности, единства, независимости от времени, это ощущение счастливого напоминания – это есть зрелость, лучшая пора человеческой жизни.
Юра пошел дежурить на ночь в 6-й этаж, – сегодня я, пожалуй, напишу «Ленинград – фронт», напишу его именно на этом ощущении зрелости, зенита жизни: «Вот для чего я жила, и что бы ни было сейчас со мною и с миром, я в этом живу, живу всем сердцем, потому что это мой зенит, потому что я жила для этого давно».
И – страшно писать – глядя на Юрку вчера, вдыхая глушинский, кировско-островской запах березы, запах детства и юности, запах как бы прошлого счастья, я думала: «Да, все складывалось так, чтоб я дошла до него, и все как бы для этого и было, для этого вечера с ним, – и это моя судьба, и это, как война, как Ленинград, – моя зрелость, мой зенит. Принимаю? Да, принимаю!»
8/VI-42
Аще забуду тебе, Иерусалиме…