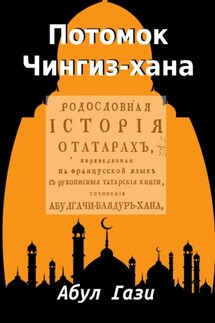Говорит Ленинград - страница 41
Сюда надо было бы вписать многое: о детском доме и о детях, где я была. О вчерашнем разговоре с Юркой, опять до утра – родной мой Юрка, как он меня мучит, он сам не знает того!.. Но я буду писать стихи, хорошо бы выступить с ними 20/VI. Немцы стягивают силы и готовят наступление на город с трех концов. Быть может, скоро тут начнется сущий ад. Быть может, мне и Юрке жить осталось недолго. Так жить же и жить и успеть что-то сказать людям…
24/VI-42
На Харьковском наши отступили, Севастополь, видимо, на днях падет. Недавно безумно обстреляли наш район, снаряды врезались в пельменную, где мы с Колей всегда брали пельмени, в набережную перед самым райкомом, – я пришла туда через час после обстрела – аж ноги отнялись: если б там, в этих комнатах, сидели люди – их разорвало бы стеклом! И вот сейчас опять грохот – это по городу, не очень далеко от нас, – и с каждым этим ударом – убивают Колю. ЕГО УБИВАЮТ И УБИВАЮТ – каждого убитого я воспринимаю сейчас как его, каждую смерть – как его смерть. Мне трудно объяснить это. ‹…›
2/VII-42
«Тихо падают осколки…» Весь день сегодня то и дело зенитная пальба – по разведчикам, и время от времени слышен гул немца. Неужели они возьмут Севастополь? Подумать об этом больно, – пожалуй, верно сказал Яшка, что людям, защищавшим его, останется только одно – умереть. Немцы продвигаются на Харьковском, видимо, и на Курском направлении, когда же, когда же их погонят?! И всё падают, и всё умирают люди. На улицах наших нет, конечно, такого средневекового падежа, как зимой, но почти каждый день видишь все же лежащего где-нибудь у стеночки обессилевшего или умирающего человека. Вот как вчера на Невском, на ступеньках у Госбанка лежала в луже собственной мочи женщина, а потом ее волочили под руки двое милиционеров, а ноги ее, согнутые в коленях, мокрые и вонючие, тащились за ней по асфальту.
А дети – дети в булочных… О, эта пара – мать и девочка лет 3-х, с коричневым, неподвижным личиком обезьянки, с огромными, прозрачными голубыми глазами, застывшими, без всякого движения, с осуждением, со старческим презрением глядящими мимо всех. Обтянутое ее личико было немного приподнято и повернуто вбок, и нечеловеческая, грязная, коричневая лапка застыла в просительном жесте – пальчишки пригнуты к ладони, и ручка вытянута так перед неподвижно страдальческим личиком… Это, видимо, мать придала ей такую позу, и девочка сидела так – часами… Это такое осуждение людям, их культуре, их жизни, такой приговор всем нам – безжалостнее которого не может быть.
Все – ложь, – есть только эта девочка с застывшей в условной позе мольбы истощенной лапкой перед неподвижным своим, окаменевшим от всего людского страдания лицом и глазами.
Все – ложь, – есть только эта девочка, есть Коля со сведенными руками и померкшим Разумом – его светозарным разумом, – все остальное ложь или обман, и в лучшем случае – самообман.
Вспоминая эту девочку и Колю непрестанно, я чувствую всю ложность своего «успеха». Я почему-то не могу радоваться ему, – вернее, радуюсь, и вдруг обожжет стыдом, тайным, бездонным, холодным. И я сбиваюсь, мне отвратительно становится все, что я пишу, и вновь, вновь и вновь осознаю – холодно и отчаянно, что жить нельзя.