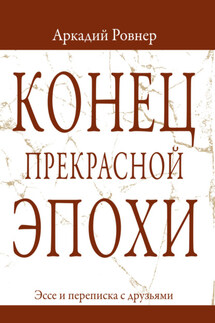Гурджиев и Успенский - страница 29
Интерпретация исторической религии и исторической церкви как неизбежных форм искажения первоначального духовного импульса была характерной для Успенского как горячего приверженца “нового религиозного сознания”. Он проводил это различие между “истинной религией” и “псевдорелигией” во всех своих работах, никогда их не смешивая, рассматривая современные религии как “псевдорелигии” и утверждая, что “ни религиозное учение, ни религиозная система (в смысле “псевдорелигии”. – А. Р.) не могут сами по себе удовлетворить людей”. Таким образом, Успенский противопоставлял не атеизм и религию, но “псевдорелигию” и “подлинную религию”, разделяя с “прогрессивными” мыслителями неприятие того, что они называли “религией” и что он называл “псевдорелигией”, однако в качестве альтернативы ей он выдвигал понятие “подлинной религии”, основанной на Откровении, в которое он верил как в высшую истину.
Подход Успенского к этой проблеме выявляет его позицию в споре двух противоборствующих культурных моделей. Его критика основных компонентов прогрессистской модели никогда не принимала форму простого воскрешения “старой” метафизической модели, отрицаемой прогрессистской критикой 1850–1870-х гг. Метод Успенского был методом двойного отрицания, как это видно в случае его отрицания псевдорелигии. Эту проблему он рассматривал с иной, новой точки зрения, опираясь на когнитивную систему, которую он обозначил как tertium organum (третий органон). Его разработка концепции “высших уровней сознания”, равно как и его попытка выйти за пределы существующей дихотомии “материализма” и “идеализма”, осуществлялась через обращение к новому канону познания, “третьему органону”.
Концепция истории
Исторические взгляды Успенского, являясь неотъемлемой частью его мировоззрения, стали точкой приложения его психологических, эпистемологических и теологических воззрений. Они строятся на сопоставлении “известной”, “обычной” и “неизвестной”, “скрытой” истории. Успенский пишет, что первая – “это история преступлений, и материал для этой истории непрерывно пополняется”[134]. Он замечает, что “все поворотные события в истории… отмечены преступлениями: убийствами, актами насилия, грабежами, войнами, бунтами, резней, пытками, казнями… отцы убивали детей, жены убивали мужей… цари истребляли своих подданных, а подданные предательски убивали своих государей”. Но существует и “иная история в истории, – отмечает Успенский, – которая известна очень немногим”[135] – история творческого процесса. Это скрытая история. И видимая история, история преступлений, приписывает себе то, что создается историей скрытой.
Сообразно этому человечество, по Успенскому, состоит из двух концентрических кругов: все человечество, которое мы знаем и к которому принадлежим, образует внешний круг, и история, которую мы знаем, – это “история внешнего круга”[136]. Но внутри этого круга, пишет Успенский, находится иной круг, о котором людям внешнего круга не известно почти ничего, но жизнь внешнего круга в своих важнейших проявлениях и в своем развитии определяется этим внутренним кругом.