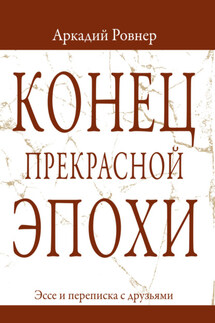Гурджиев и Успенский - страница 47
Говоря о трех видах движения к “состоянию Брамы”: движении вперед – в будущее, движении назад – в прошлое и движении на одном месте – в настоящем, – Успенский называет первый вид движения путем формирования и смерти народов и рас, или историческим временем. Второе движение он определяет как путь реинкарнаций и третье – как “движение по кругу вечного возвращения, повторение жизни или внутренний рост души”[235].
Вечность для Успенского означала не “бесконечную протяженность времени”, а “иное измерение времени”[236]. Он писал, что повторение требует не “трех измерений со временем как четвертым измерением”, а “пяти измерений, т. е. совершенно нового континуума “пространство – время – вечность”[237].
Различение между идеей вечного возвращения и концепциями повторного рождения Успенский находит в новозаветном понятии пакибытия[238]. Успенский объясняет этот термин как означающий повторное существование или повторное рождение. Он ссылается также на Оригена, первохристианского богослова третьего века, который отрицал идею вечного возвращения, однако демонстрировал полное понимание идеи повторения в вечности. В своей книге “О началах” Ориген так писал об этом: “Иногда появляются миры, друг от друга не отличные, но во всех смыслах тождественные… и все, что происходило в этом мире, все… произойдет снова”[239].
Успенский не без основания сомневается в искренности оригеновского отрицания идеи вечного возвращения и приводит соображение о том, что в третьем веке эту идею, возможно, нельзя было представить иначе как через ее отрицание – хорошо знакомая логика эзопова стиля. Эта идея была имплицитно заложена в оригеновской концепции циклического странствия душ, их влечения к Богу, пресыщения и отпадения, а затем возобновления цикла. Успенскому представляется важным тот факт, что идея вечного возвращения была известна уже в первые христианские века, однако впоследствии она полностью исчезла из христианской мысли.
Среди позднейших писателей, у которых Успенский находит следы этой исчезнувшей концепции, он называет таких разных авторов, как Р. Л. Стивенсон, С. Х. Хинтон, А. К. Толстой, Д. Г. Россети, М. Ю. Лермонтов и Д. С. Мережковский. Ницше считал идею “вечного возвращения” высшей точкой мышления. Она ассоциировалась у него с идеей “Вечного Теперь” и с “Остановись, мгновение!” в “Фаусте” Гете и фактически означала выход из времени и пространства.
Ницше “открыл” для себя идею “вечного возвращения”, когда он оказался в горах Энгадина на высоте шести тысяч футов в августе 1881 года. Он заявил тогда, что именно эту идею он должен возвестить миру, однако ему это не удалось. Открытие это было результатом внезапного озарения и прозрения. Он вдруг обнаружил, что законы, управляющие миром, и соответствующие им истины потеряли свою силу. Лев Шестов так пишет об этом событии: “Он (Ницше) не нашел подлинного слова, чтобы назвать то, что ему открылось, и заговорил о вечном возвращении”[240]. И далее: “Под вечным возвращением у Ницше, по-видимому, скрывалось нечто безмерное и могущественное”