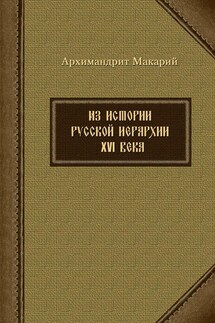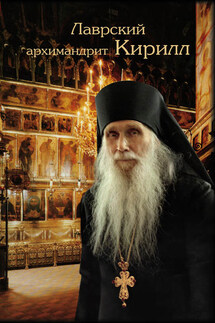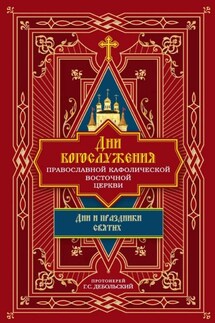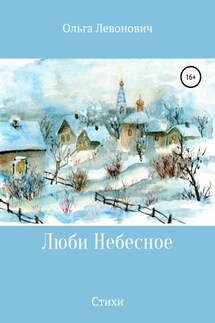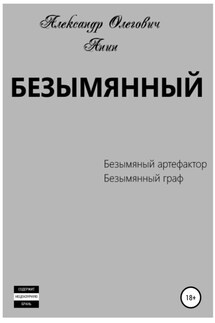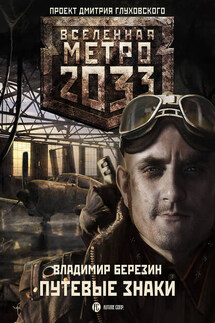Христианское благочестие. История и традиции - страница 29
Можно привести ещё один исторический пример, относящийся к XVII веку и свидетельствующий о плачевном завершении отношений некогда близких людей. Душевное общение царя Алексия Михайловича и его «собинного» друга, Патриарха Никона, первоначально может быть охарактеризовано как идеал личных отношений, а также единения и взаимодействия государственной и церковной властей. Но в отличие от предшествующего времени, когда на Первосвятительском престоле был Патриарх Филарет, а на царском – его сын Михаил, ситуация при его сыне, Алексии Михайловиче, не будучи скреплённой родственными узами, завершилась трагично в отечественной истории: по царской инициативе некогда желанный глава Церкви соборне был осуждён и сослан в заточение.
Переходя к окружающей действительности, можно сказать, что всякая наша неприятность имеет первопричину в тёмной силе, а совершитель недостойного деяния – просто несчастный человек, находящийся под властью диавола, и, следовательно, он нуждается в усиленной молитве. Видя какие-то козни от своих ближних, мы начинаем им платить тем же. В результате – лукавый остаётся довольным. Когда же такой человек силой молитвы освободится от действа лукавого, то он станет ближе к Богу, а следовательно, и к своему ближнему. В результате усиленной молитвы нестроения в отношениях с ближними сами собой будут исправляться. «Таким образом, если бы мы больше молились, то меньше бы было зла вокруг нас»[200]. Говоря о духовной природе данной проблемы, вспомним мысль Ф.М. Достоевского, что сердце человека – это поле, где диавол борется с Богом за обладание душой и властвование над ней[201]. Человеческие нестроения во взаимоотношениях навеяны отнюдь не Ангелом Хранителем, а злой силой, которая заинтересована в погублении человека. А погубить человека удобнее всего через ссоры именно с близкими, поскольку с «дальними» мы встречаемся редко и от распрей с ними диаволу мало выгоды. Более того, здесь напрашивается вывод, что, вопреки бытующему мнению, в спорах истина и взаимопонимание не рождаются.
Обострённое чувство справедливости толкает нас на действия, не имеющие ничего общего с христианской любовью и потому не приносящие успеха и пользы. Это вполне понятно, так как в силу своей греховности мы хорошо видим в глазу ближнего даже сучок (см.: Мф. 7,3). Народная мудрость гласит: «Видел, не видал; слышал, не слыхал». Её смысл таков: увидел, но не осудил. Но ещё более высокая христианская мудрость: увидел неладное – помолился.