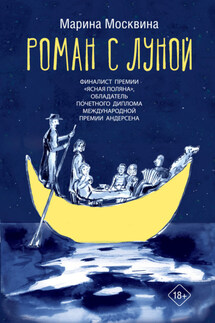Хрустальный желудок ангела - страница 22
Ее он назвал «матушка».
Что делать, если издатель яростно требует выпустить полное собрание сочинений, втиснув в один том романы, повести, рассказы, гирлянду очерков, эссе… – радоваться или упираться?
– Смотря какую ставить цель, – глубокомысленно заметила моя мать Люся. – Чтобы в твоей книге было ВСЁ – и ее бы никто не читал? Или не всё, но читали бы все?
Вопрос был исчерпан.
Рукопись книги, продуманную до мелочей, – корпус текстов Даура, наши слова любви, буквицы, концовки, шмуцы, оригиналы рисунков Тишкова – я повезла в дорожной сумке на Казанский вокзал проводнице фирменного поезда «Урал» и постояла на перроне, пока темно-красный поезд с желтой полосой и занавесками с гроздьями рябины тронулся в путь, пока исчезли вдали огни концевого вагона.
Прав был Даур: все наши дела подхватывает ветер и уносит, так сказать, в великое пространство… Близилась осенняя книжная ярмарка на ВВЦ, и мы на нее успевали. В день открытия нам улыбнулась фортуна: в «Экслибрисе» – книжном приложении к «Независимой газете» – вышла в свет вновь обретенная беседа Тани Бек и Даура «Огонь в очаге»!
Все, кто умел читать, читали «Экслибрис», любое упоминание, оброненное на его страницах во время ярмарки, влекло за собой успешные продажи, а тут – целая полоса с портретом Зантария в центре – и броский подзаголовок: вышел долгожданный «Колхидский странник»… Налетай!
Как о великом сюрпризе я сообщила об этом Татьяне Бек. Больше, чем этой публикации, мы радовались только самой книге. Коробки с первыми ласточками прибыли на московскую ярмарку прямо из екатеринбургской типографии «Уральский рабочий», и Леонид Тишков, поспешив на презентацию, уже звонил с донесением, что встретил мужика, на ходу читавшего «Колхидского странника».
– А это нам знакомый человек? – спросила я осторожно.
– Абсолютно нет, – ответил Лёня.
Зал был полон. Я обнимала и целовала всех без разбору и благодарила причастных за публикацию «Огня в очаге». Клянусь, у меня и в мыслях не было, что здесь может что-то кому-то причитаться! Тут бы не грех и приплатить, только бы все так славно сложилось и на целый подлунный мир прогремела Танина с Дауром рукопись, можно сказать, найденная в Сарагосе.
Черт меня дернул ненароком обнаружить, что автору беседы полагалось небольшое денежное вознаграждение. Я, разумеется, не стала заморачиваться, но Таня – справедливая душа, абсолютно щедрая и бескорыстная, возмутилась не на шутку.
– Как? – удивилась она, и в ее голосе зазвучали металлические нотки. – Редактор забрала себе чужие деньги?
Я попыталась оправдать коллегу – та лила воду на нашу мельницу, оперативно, профессионально, с помпой и с исчерпывающей преамбулой (моей). Может, у нее было несчастливое детство, но она человек, и ничто человеческое ей не чуждо. Вы поэт, говорила я Тане, вам достаточно взглянуть и понять, что творится в душе у редактора. Почему бы не поговорить с ней, раз вам так хочется узнать, есть ли у нее совесть.
– Вы и поговорите, – сердито отвечала Таня. – Раз вы все это затеяли, надо отвечать на вызов, который бросает вам жизнь, а не сваливать все на другого и ждать, когда он кинется на амбразуру.
Тут же представила: я подкарауливаю редакторшу и, выйдя из кустов на узенькой дорожке, интересуюсь, будто невзначай, как получилось, что гонорар оказался у нее, и было ли это случайностью или вообще у нее так заведено… А сама думаю: Боже сохрани задавать такие вопросы, и к чему мне прищучивать журналиста, который привлек к нашей книге столь пристальное внимание читателей?