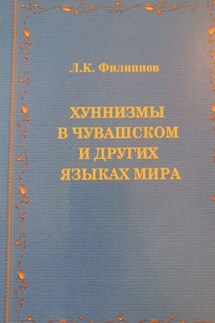Хуннизмы в чувашском и других языках мира - страница 10
В период наивысшего подъёма могущества хуннов их держава заняла огромную территорию: на запад её границы простирались до Каспийского моря, на восток – до Маньчжурии, на юг – до реки Хуанхэ, на север – до Енисея [Там же. С. 60]. Множество больших и малых народов оказалось в сфере политического влияния хуннов. Владычество их над ними продолжалось более 150 лет [Филиппов, 2008, с. 27—34; Он же: 2014, с. 43—48, 69—72].
1.6. Образование хуннского языка
Отрыв дунху и прахуннов друг от друга (второе тысячелетие до н. э. – гл. 1 §1.3) привёл к тому, что в их устах дунхуский (пратюркский) язык стал отличаться. Это был первый распад дунхуской (пратюркской) языковой общности. (В науке нет единого мнения в датировке этого события; например, А. В. Дыбо начало распада пратюркского языка связывает с миграцией части хуннов из Западной Монголии на запад через северный Синьцзян в Южный Казахстан, на Сыр-Дарью в 56 г. до н.э. [Дыбо, 2004, с. 766].) Второй распад дунхуской (пратюркской) языковой общности произошёл в 209 г. до н.э., когда дунху, разбитые хуннами, разделились на две части, которые впоследствии, как было сказано (гл. 1 §1.3), стали известны под названием ухуань и сяньби. Началось формирование не только двух народов, но и двух языков – ухуаньского и сяньбийского.
Кочуя в пустыне Гоби, прахунны обживали этот суровый, поистине богом забытый край. Двигались они по земле до них почти не заселенной, не встречая сопротивления. Эти условия жизни выработали в них такую, например, черту характера, как свободолюбие, что так было свойственно хуннам. «Да, – пишет Н. М. Пржевальский, – в тех пустынях действительно имеется исключительное благо – свобода, правда, дикая, но зато ничем не стесняемая, чуть не абсолютная» [Пржевальский, 1948, с. 216]. Параллельно шёл процесс становления хуннского этноса и его языка. Когда сформировавшиеся хунны пересекли пустыню Гоби, они оказались в Южной и Юго-Западной Сибири, где вобрали в себя часть динлинов, енисейцев (предков кетов и родственных им племён), енисейских кыргызов, бома, многих других местных племён и племён, приходивших сюда из самых различных мест. Языки их так или иначе взаимодействовали с хуннским, заимствовали хуннские слова. В свою очередь хуннский язык заимствовал отдельные лексические единицы из языков тех или иных подвластных хуннам племён. К сожалению, науке доподлинно неизвестно, на каком языке говорили динлины, енисейские кыргызы, бома и многие другие подчинённые хуннам племена. Предкам кетов в этом отношении повезло: их язык, образно выражаясь, живёт в современном кетском. Забегая вперёд, скажем, часть кетов и родственных им енисейских племён навсегда связала свою жизнь с хуннами и их потомками и разделила их судьбу. На последующих страницах данной книги мы ещё не раз вернёмся к ним (гл. 9 §9.1, гл.10 §10.4).
1.7. Основной язык Хуннской державы
Повторимся, Хуннская держава была полиэтнической, а следовательно, многоязычной. Входившие в неё нехуннские племена говорили на своих языках, что затрудняло общение между ними. И в хуннском обществе естественным образом возникла необходимость в межплеменном средстве общения: оно было жизненно важно для существования самой державы. Основным языком в Хуннской державе стал хуннский язык – язык продвинутого, политически господствующего этноса. Представители нехуннских племён усваивали его, тем самым усиливали его значимость. Её усиливала и слава народа. Во II—I вв. до н. э. на востоке хунны славились невероятно, и, по утверждению В. П. Васильева (1818—1900; Россия), «всякий мог считать себя за честь называться Хунном, как некогда на западе Римлянином» [Васильев, 1872, с. 115]. Ф. Н. Глинка (1786—1880; Россия) в «Письмах русского офицера» писал: «Неоспоримо, что слава народа придаёт цену и блеск языку его… Во все времена и у всех почти народов слава языка следовала за славой оружия, гремя и возрастая вместе с нею» [Глинка, 1951, с. 324]. Несмотря на это, в Хуннской державе хуннский язык не имел привилегированного статуса. Он, хотя и выполнял определённые интеграционные функции и функции языка дипломатии в сношениях с другими странами, не являлся