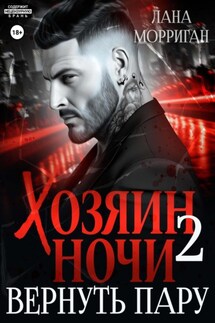Император Святой Руси - страница 62
Эти практики воплотились в повестях Ивана Тимофеева и Авраамия Палицына. Допустить крушение всего государства было нетрудно и авторам предшествующих столетий. Однако новацией в названных повестях оказывается «включенное наблюдение», взгляд изнутри «нас», потерявших Божью милость и наказанных за свое неразумие. Для Тимофеева и Палицына в равной мере преодоление Смуты представляется возможным только по Божьей милости. Ни христианского народа, ни Святой Руси оба автора в войнах Смуты не прослеживают, а пастыри, лишенные своей паствы, лжецари и нелегитимные (не прирожденные) цари лишают города и чины самой возможности объединения, обрекая Московское государство на измену, нашествие иноверцев и разрушение православия. К 1610 г. идеалу народного пасторства противостоит совещательное действие «всей землей» и ритуальное воссоединение без религиозной основы. Этот идеал находит параллель не только в польско-литовском политическом устройстве, но и в отмечавшемся выше в нашей работе «народном избрании царя», запечатленном в Лицевом своде Ивана Грозного.
Риторическая общность вокруг умершего полководца возникает в «Писании о преставлении и погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, рекомаго Скопина» (ок. лета–осени 1612 г.). Здесь ощущение массовости возникает не только за счет упоминания женщин с детьми и перечисления военных чинов, но и благодаря цитате из Псалтири юноши и девушки, старцы и юнцы. Этот эмоциональный кадр усилен за счет сцены плача всех собравшихся. Они оплакивают смерть их заступника и сравнивают себя со скотами бессловесными, овцами, не имеющими «пастыря крѣпкаго»:
И тогда убо стекаются ко двору его множество войска, дружины и подручия его хоробраго, и множества народа, по писанному: юноша с дѣвы и старцы со юнотами, – и матери со младенцы, и всяк возраст человѣчь, – со слезами и с великим рыданием. От войска же его и дружины хоробрыя князя Михаила Васильевича ближние его подручники, воеводы и дворяне, и дѣти боярские, и сотники, и атаманы прихождаху во двор его, и ко одру его припадая со слезами, и со многим воплем и стонанием268.
Плачущих поддерживает Якоб Делагарди («Яков Пунтусов»), обращаясь к народам московским от лица своей Немецкой земли и шведского короля с похвалой в адрес умершего воеводы, своего соратника. Следом князя Михаила Скопина-Шуйского оплакивает освященный собор со множеством народа («и не бѣ мѣста вмѣститися от народнаго множества») и воеводе делают огромный каменный гроб, который вписывается в картину всенародного горевания, затем еще усиленную за счет всенародного плача и рыданий («кричания и вопля тяшка гласа»)269. Плачет не только «Русские земли народ», но «и всему миру плакати, но и иноземцем, и немецким людем», – вновь и вновь к московским людям обращается Якоб Делагарди. Царь Василий Иванович оплакивает юного воеводу на погребении и после него, вернувшись «в полату свою»270. Продолжая сравнение с «летописным народом», можно заметить, что в состав «народа» церемоний иноземцы не входят ни в XIV–XV вв., ни в обильном на коллективные репрезентации XVI в.