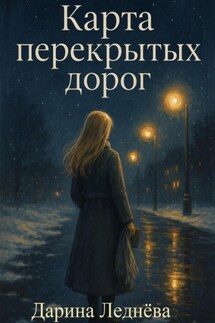Император Святой Руси - страница 69
Обратимся теперь к примеру из посольской книги того же, польско-литовского, дипломатического направления, но 20 лет спустя, когда решался исход войн Москвы и Речи Посполитой за Ливонию. В грамоте Боярской думы к Панам радам от июня 1581 г., составленной накануне Псковского похода короля Стефана Батория, первые после протокола слова звучат:
Ведомо вам, братье нашей, да и всему народу хрестьянскому то не тайно…295
В следующих затем словах о мирных инициативах понятие народ раскрывается как обозначение христиан, населяющих Россию и Речь Посполитую, и заканчивается послание призывом к восстановлению мирных отношений «всему народу хрестьянскому к прибытку и к покою»296. В октябре 1581 г. царь планировал вывод своих войск, оружия и запасов из Ливонии. В посольском наказе предусмотрено, что не все московские люди сразу покинут ее территорию:
А что останетца в неметцких городех народу и запасов всяких, а со государскими людми чего не подоимут, то и после вывозить297.
В данном случае в народ обобщены не все люди вообще, населяющие ливонские замки, а именно подвластные царя Ивана IV, которые должны покинуть свои места не сразу, не в первую очередь298. Как можно видеть, и семантические поля, и области умолчания, и контекстные сдвиги значений народа в посольской документации 1560 и 1581 гг. совпадают, и можно было бы говорить об особой дискурсивной модели, в которой понятие народ бытовало в российско-польско-литовских дипломатических отношениях. Впрочем, эта модель не может быть изучена без сопоставления с ее польско-литовскими аналогами.
Как и можно было ожидать, христианский народ в московской посольской риторике раскладывался при необходимости на два христианских народа. Посланник Д. И. Истленьев в июне 1584 г. получил наказ прославлять венчанного на царство Федора Ивановича за его «милосердье… к народом к обоим крестьянским»299. Речь в данном случае идет не о политических народах Короны Польской и Великого княжества Литовского. Оба народа в данном случае обозначают православных и католиков. Однако узкий практический контекст позволяет и здесь избежать терминологических упрощений: милость царя касалась одиннадцати пленных, отпущенных после венчания Федора на царство, и среди них могли быть только представители именно этих двух конфессий.
Нигде в переговорном процессе между двумя русскими господарями – российским царем и великим князем литовским – мы не обнаружим в качестве подвластных той и другой стороны русский народ. Он не выступает ни как единый субъект, ни как разделенный. Выражение «на Москве» из наказа Канбарову 1570 г. обращено к другому устойчивому топониму, который к середине XVI в. вышел из делового употребления, – Русская земля.
Обратившись к категории Русской (или Руской) земли, попытаемся выявить особенности формирования «религиозного социального» в московской культуре XVI в. В связи с этим интерес представляют поздние рефлексы этого термина, бытование сказаний и повестей, мобилизационные дискурсы (воззвания, речи, видения и т. п.), бытование идеалов земли при посольском обмене с партнерами и особенно с ближайшими соседями. Вряд ли оправдан взгляд на посольский дискурс как на источник более точный по сравнению с летописями или индивидуальной рефлексией авторов уровня князя А. М. Курбского, Ивана Тимофеева или Сильвестра Медведева: в задачи посольского ведомства входило в равной мере прагматичное ведение дел, прибавление новых титулов и титульных определений к