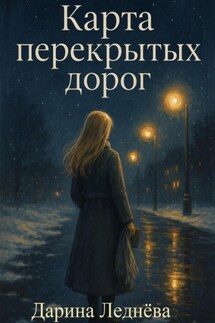Император Святой Руси - страница 71
1) В качестве исходного наблюдения должно быть принято, что государства с самоназванием Русская земля к XV – началу XVI в. не существовало.
2) Невозможно выявить «этническую основу» в сообществах русских земель, где превращение в «своего» происходит независимо от «места рождения», «крови» и т. п. Русь не была населена народом русь, а этноним русские так и не стал сколько-нибудь весомым определением населения, охваченного церковно-политической нацией, именуемой Русская земля304.
3) Наименование Русская земля приобретает повсеместно в кириллической книжности – а также в латинских культурах – историческое значение. В Московском государстве отсылка к правам на Русскую землю с рубежа XV–XVI вв. имеет мобилизационный смысл, означая притязание великих князей московских на очищение своей будто бы исконной «господаревой отчины».
4) К XVI в. с приходом ряда новых самоназваний («Росїа», «Руское господарство» и др.) архаизм Русская земля теряет свои топографические очертания и одновременно наполняется семантикой богоспасаемой империи305.
5) Один из неизбывных парадоксов посольских исторических дискурсов: убеждение московских государей, что их власть распространяется не далее их «отчины» и не касается подлинных «отчин» их соседей, и в то же время – стремление править «всей вселенной» или «всей поднебесной»306.
Категории Русская земля и русаки встречаются в XVI в. не только в исторических текстах, но и в таком актуальном языке, как дипломатический. Датских послов Клауса Урне «со товарищи» в ходе московских переговоров в апреле 1559 г. переводят, упоминая под властью царя «русаков», а также датских купцов, приходящих «в Рускую землю» в том же значении – то есть в землю царя и его подданных «русаков»307. Интересно, что в царском ответе А. Ф. Адашев «со товарищи» отвечают о межгосударственной торговле следующим образом:
А его б люди королевские потому же наши господарьства к Москве и в ыные наши господарьства ездили торговати безвозбранно308.
Слово «русаки» в ходу в Посольском приказе и встречается в одном ряду со словом «немцы» не только в переводах, но и для «внутреннего пользования» в значении также бытующего в этих текстах выражения «русские люди»309.
Эпитет русский в посольском дискурсе имеет три несходные сферы значений.
1) Он маркирует претензию московских государей на «Киевское наследство», и в этом качестве его территориальный референт охватывает к 1560‑м гг. Поволжье вплоть до Каспийского моря, на юге и западе Киев, Волынь, Полоцк, Витебск и др.310
2) Он определяет сообщество православных христиан, в которое может вступить человек любого происхождения, приняв крещение. Наиболее прямолинейно эту мысль выражает Иван Грозный в полемике с римским посланником Антонио Поссевино. Он сравнивает «русскую веру» с «рымской» и уточняет наиболее спорный вопрос: «И мы веру держим истинную хрестьянскую, а не греческую»311.
3) Он относится к «нашему обычаю», «языку прямому московскому», и в этом смысле очерчивает круг «культурных» различий «своего» и «чужеземского»312.
Во всех этих коннотативных группах эпитет «русский» обозначал предмет притязаний, а не сложившуюся практику словоупотребления, признанную, например, Речью Посполитой, Константинопольским патриархатом и носителями других