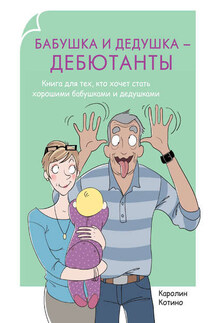Интересная жизнь… Интересные времена… Общественно-биографические, почти художественные, в меру правдивые записки - страница 6
Самые же страшные воспоминания военного детства по какому-то совпадению связаны тоже со станциями, но уже с железнодорожными: подмосковная Правда и вокзал в городе Ряжске. Впрочем, это не случайное совпадение, а логика войны.
Сразу же после начала войны начались, как известно, налеты немцев на Москву. Город стали бомбить. Одна из бомб упала буквально метрах в тридцати от нашего дома, а жили мы на первом этаже, и спасла нас от взрывной волны только высокая каменная стена, в которую окна почти утыкались.
Я не помню (а уточнить уже не у кого, нет в живых ни мамы, ни сестры), каким образом и с кем конкретно – то ли с детским садом, то ли с каким-то детским городским лагерем – вывезли меня летом 41-го года из опасного города в безопасное, как считалось, Подмосковье, на станцию Правда. И сразу же после того, как мы сошли с электрички, попали под жуткую бомбежку! Эта станция в 40 километрах от Москвы была крупным железнодорожным узлом, и немецкие самолеты эшелон за эшелоном сбрасывали сотни бомб на нее. И лезли мы (малые дети!) под горящие вагоны, бежали под осколками в ближайший лес. Помню (помню!), как упала рядом со мной девочка – вся спина в крови. И рельсы, рельсы… Вагоны, вагоны… Взрывы, кровь…
Вечером мама услышала по радио: «Вчера днем фашисты совершили массовый налет на железнодорожную станцию Правда». С тех пор она в войну далеко меня от себя не отпускала.
И вот снова железнодорожная станция. Уже в городе Ряжске, что в Рязанской области. Как мы туда попали? Удивительны поступки людские! Пережили мы в Москве тяжелые дни паники, голодное начало 42-го года, и решила мама податься на родину своей семьи в село Ермолово на Рязанщине. Приехали мы в каменный дом Сивориных (девичья фамилия матери). Приехали и попали как кур во щи!
Почти сразу же по приезде, не знаю точно, почему и как, но оказалось это село как бы на нейтральной полосе. Наши войска отошли от него на несколько километров, а немецкие войска не дошли до него несколько километров. И началась в селе вакханалия! Грабили колхозные сараи, кладовые, магазины. Все по домам разносили. Мама в силу своей любви к культуре сказала, чтобы пошел я в библиотеку (Ермолово – большое село, в нем и Дом культуры был, и большая библиотека) и взял несколько книг. До библиотеки я не дошел. Интересно мне было смотреть, как мужики тяжелые мешки с мукой из сарая таскают. Стою смотрю. И здесь подъезжает мотоцикл с коляской, в нем немцы сидят. Народ застыл, смотрит молча. Немцы засмеялись, автоматами по толпе поводили, попугали – «пух, пух» – и уехали. Наверное, разведка была. Так я несколько минут в оккупации под немцами был.
А вечером пришла какая-то баба и вкрадчиво стала говорить маме: «Ты уж извини, Ольга, но, когда немцы придут, мы уж скажем, что твой муж коммунист и комиссаром на фронте воюет». И утром стала мама в дорогу собираться. Помню, сшила она что-то вроде маленького рюкзачка и на меня примеряет: «Не тяжело, сын?» Дошли мы пешком до Ряжска – километров тридцать-сорок. Крупный железнодорожный узел, поезда с севера на юг и с запада на восток идут. На вокзале полно народу. Еле-еле протиснуться можно. Весь пол занят: мешки, подстилки, спящие люди… Дней пять мы на станции жили. Пока светло было, стояли на перроне, встречали поезда, мама пыталась сесть на них, до Москвы доехать.
Помню, как бежали мы вдоль очередного отъезжающего поезда. Медленно мимо нас он проплывает, стучат на стыках вагоны-теплушки, стоят в их открытых проемах люди, сидят, свесив ноги, тесно прижавшись друг к другу солдаты и мужики. Почему-то вместе. Мама бежит и просит, просит посадить нас. Она кому-то деньги дала, чтобы взяли, а нас обманули, не посадили.