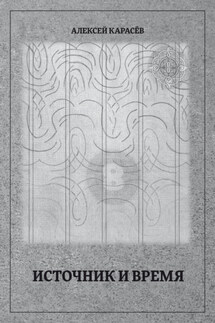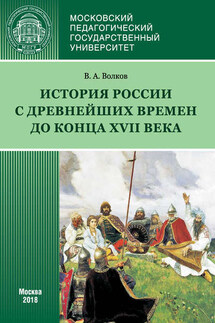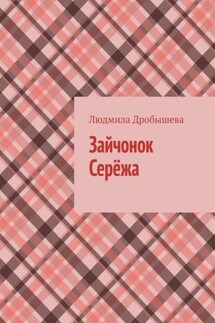Источник и время - страница 29
Утро откликнулось на его настроение белёсым лучом солнца, невесть почему возникшим, не могущим, казалось, ничего решить, но всё же таким необходимым, пробивающим серую пелену неба и тающим на глазах с неумолимой определённостью. Он проводил его и засобирался из дому, дабы быть ближе к неминуемому.
Едва выйдя за дверь, встретил соседку с сыном и, уже проследовав мимо, услышал:
– В пику многословию и рассудительной похотливой словоохотливости должно же быть что-то безусловное, иначе и жить не получится…
Наверное, он не обратил бы внимание на эти слова, если б не шли они от соседского мальчишки, которому было лет пять-шесть от роду. – Он даже в школу ещё не ходил. Сергей приостановился, а мать только растерянно улыбнулась и смущённо пожала плечами. С таким предисловием он и очутился на улице.
«Когда буква исполнится духом, когда наступит время быть истине зримой, когда то, что убывает от зримого, будет убывать и от истины, тогда правда – это единственное, что будет определять человека».
Он посмотрел вокруг. – Зелёные шелестящие тополя. И даже пятипалый каштан на том же месте. Бабушки, сидящие на скамеечке у дома, и сосед со своим автомобилем, и дети, уже вернувшиеся с дач и гуляющие последние дни перед школой; и порывы ветра, блуждающие в кронах, – как и в пору его детства и набежавшей неизбежной юности. – Будто соприкасаемые этой правды… Но разве это то же?.. Так когда правда – это единственное, что будет определять человека? если она уходит? – Он осмотрелся… Правда не может быть далеко. Правда рядом… В шаге, всегда… Правда в повороте головы… Помедлив, он всё же обернулся. Что-то мелькнуло перед глазами пролетевшей птицей, детским мячиком, брошенным неокрепшей рукой. Мелькнуло и исчезло. И он, следуя этому движению, подался вперёд, тут же встреченный порывом набежавшего ветра.
Параллельный характер существования определяет течение жизни. И плачет душа человеческая от невозможности осуществления, и по ущербу своему преобразует невозможность в многообразие, и выбирает из него образ себе, придавая образу этому – возможность и сокрушая единое – на возможности; и меркнет, ибо с существом уже иметь дела не может. Засыпает её, а она выбирается, выбирая возможное из возможности, творя образ новый, рассыпая уже и то, что было… Так какого осуществления ты хочешь, если ты уже никто и зовут тебя никак? и имя твоё не оправдано, и творишь, – потому что тварь, и по возможности своей – вне творения…
Уповая на скромные силы свои, видит человек всю тщету своих же попыток хоть как-то определиться от неразрешимости сокровенных чаяний. – Дабы не был чужд повелевающий глас Божий в сокрушении вольного, навязчивого поиска души человеческой своего малого места в угоду всепроникающему времени, в кажущейся, постоянно возрожденческой просвещённости и парения «над» против восхождения «к»… Где твои ступени? Где твоя твердь? – Подует ветер – и нет тебя…
Нельзя избежать сущего, и когда померкнет образ Божий в человеке – кончится человек; и умрёт, умерев смертью в смерти, – и нет его…
Всё-таки белёсый луч оказался прав и определил своим появлением дальнейшее состояние дня. Нет, наверное, он не смог отменить осень, но внёс в течение времени некоторые послабления в угоду, казалось, привередливой человеческой природе – придавать вещам условный характер.
«Мне никогда не пережить себя прошлого. Прошлое восстаёт и принуждает память сердца… Но всё-таки оно действенно, а посему – своевременно и желанно. А то, что современно, – несвоевременно, мертво… Не человек должен идти в ногу со временем, а оно, время, в ногу с ним… И что его относительность в отношении благодатной абсолютности человека в пределе своём?.. Человек должен быть с Богом… И что ему время? – Всего лишь время… Вот только Киры уже нет…»