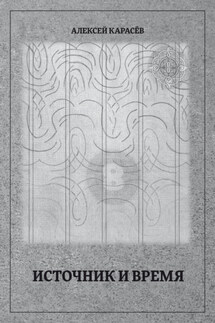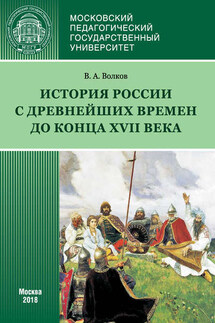Источник и время - страница 37
Когда бы можно было относиться к детям своим, как к внукам, – с последним непреходящим словом и держа ответ пред вечностью, и ставя, в общем-то, пред ними и пред собой вопросы равные, и отвечая на них – Бог даст – вместе, – то, кажется, исчез бы этот провал, закрепляющий склонность и усугубляющий расположенность ко греху. И в этом-то малом, житейском вроде бы действии время опять выступает в ущемление человека, подставляя его под удар павшей его природы и закрепляя эту составляющую в человеческом самоопределении, ежели самоопределение это – цель. В противном же случае – время затихает. Время готово уступить и отступить – человек отступить не готов. – И проступает подмена, и время «играет не по правилам», – играет «против», вынужденно, кажется, принимая то, на что не способно: быть духом в букве. И остаётся тешить себя попыткой сдать экзамен на человеческий минимум вне этого провала, когда время – друг. – Или, паче того, утверждать себя дитём своего времени, утверждаясь в родстве с тем, что родным быть не может по определению, ибо «слишком смахивает на смерть»… Но это ещё полбеды. – Беда в том, что ты становишься пасынком, презрев сыновство, иль без родства вовсе. Так что тебе твоё время, ежели время – чужое? Ежели история – в малом и большом – как память об утраченной, но всё же доступной истине, которая возможна и доступна, но недоступна и невозможна… Возможна и доступна в принципе – в вечности, но недоступна и невозможна в частности – во времени…
Так что этот вопрос её. – Катюшин вопрос…
Их встретил шум крестьянского подворья – суматошный и безалаберный – в смешении всяческой домашней живности, соперничестве за место под солнцем и непременной уживчивости всего и вся – для вещей устоявшихся, домовитых и безусловных. Это задало направление, и внуки потянули Алексея Аркадьевича в сторону этой «деревенской действительности», смоделированной и узнаваемой, будто на картинке, – обращённой по задумке более к страждущей душе – этаким аттракционом для неё – нежели к необходимости и жизни. – Но всё равно приятно. И, может быть, потому было что-то трогательное в этом, игрушечное и милое, – вдруг найденное и вот-вот, казалось, заново обретённое – хотя и без продолжения…
«А детям, наверное, хорошо. – Они ещё ничего не знают… А вопросы-то одни и те же… В конце концов – не пятилетние же птахи всё это делали… – Игрушки всякие – пупсиков там разных, машинки с доспехами… Для приготовления иль для подмены… Для радости и назидания – безусловного и живого… И что говорить о тех, кто избрал для себя призванием изображение выродков – повсеместно и убеждённо – присовокупивших себя действительности и со следами глубокого потребления на лице. – Чушь стеклярусную, претендующую на жемчужность. – Да так, чтобы ещё можно было, смотря на всё это, испытывать вроде как подъём, заменяя живое – прогрессивным, а мёртвое – насущным. И тут же – в прозрачных комнатах – всяческая дикая живность с отсутствием в глазах и странной очевидностью на обречённую безучастность… Костя, Катюша, вы посмотрите на них: на глаза их, на взгляд их. – Они же все ждут – и хищные, и свирепые, и слабые, и малые; и не от нас – безнадёжно, мимо. И не любят… Не любят. Терпят. – Им бы от нас подальше, а они вынуждены, чуя смерть в повседневности и непременности, в сытости и напрасности, без возможности и присущих именно им надежд. – Всё же живая душа… Живая… Как же отнять у Катюши эту радость? – Для неё – радость, для меня – назидание… Или, может быть, для неё – радость и всё же назидание? А мне – назидание, но и, пусть уж, радость… Вот и ответы не такие разные. – Это и её, Катюшин, ответ. – Хотя бы для того, чтобы, глядя в глаза, осознать, как это всё и вся болит за нас. И чего-то ждёт – от тех, от кого и ждать-то нечего… Они же ничем не виноваты, а мы пытаемся их ещё дотянуть до себя. – Невелика награда, прямо скажем, – будто калек мало. Они хоть вопросами и не задаются, но в правде-то им не откажешь. – Им ещё уподобления нашего не хватало… Где ж ты, Катина радость? – Это и её – Катин вопрос…»