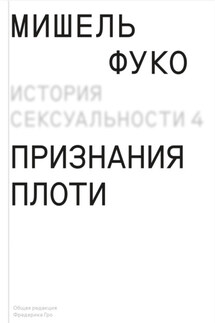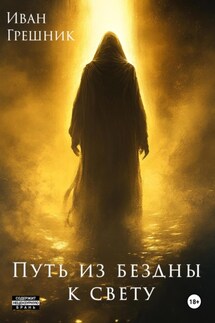История безумия в классическую эпоху - страница 22
Ведь отныне истина безумия неотделима от торжества и окончательного всевластия разума – ибо истина безумия в том, чтобы, пребывая внутри разума, стать одним из его ликов, одной из его сил и как бы некоей мгновенной потребностью, благодаря которой он обретает еще большую уверенность в себе.
В этом и состоит, быть может, разгадка постоянного и многообразного присутствия безумия в литературе конца XVI – начала XVII века, в искусстве, которое, стремясь овладеть разумом, ищущим самого себя, признает необходимость безумия, своего безумия, обступает его, берет в кольцо и в конечном счете одерживает над ним победу. Таковы игры эпохи барокко.
В литературе, как и в философской мысли, идет та же упорная работа, и завершится она тем же утверждением трагического опыта безумия в лоне критического сознания. Не будем пока останавливаться на этом явлении и, не проводя никаких различий, рассмотрим в общих чертах те лики, те фигуры безумия, которые можно обнаружить как в «Дон Кихоте», так и в романах Скюдери, как в «Короле Лире», так и в театре Ротру или Тристана Л’Эрмита.
Начнем с самой значительной и самой устойчивой из них (очертания ее, чуть стершиеся от времени, можно распознать и в XVIII веке [119]): с фигуры безумия через отождествление себя с героем романа. Ее характерные черты раз и навсегда запечатлел Сервантес. Но сама тема всплывает вновь и вновь: и в непосредственных обработках «Дон Кихота» («Дон Кихот» Герена де Бускаля был сыгран в 1639 году; двумя годами позже ставится пьеса того же автора «Правление Санчо Пансы»), и в переложениях его отдельных эпизодов («Безумства Карденьо» Пишу – это вариации на тему «Рыцаря-Оборванца» из Сьерра-Морены), и, более косвенно, в сатире на фантастические романы (как в «Мнимой Клелии» Сюблиньи или, внутри самого повествования, в эпизоде о Жюли д’Арвиан). Химеры переходят от автора к читателю, однако если для одного они были фантазией, то для другого превращаются в фантазм; писательский прием простодушно воспринимается как фигура реальности. Внешне речь идет о вещи весьма несложной – критике романического вымысла; но если копнуть чуть глубже, обнаружится тревожная озабоченность соотношением реального и воображаемого в произведении искусства, а быть может, и той неясной, неуловимой связью, какая существует между фантастическим вымыслом и гипнотической силой бреда. «Изобретением всех искусств мы обязаны людям с расстроенным воображением; каприз у живописцев, поэтов и музыкантов – это всего лишь другое, смягченное воспитанностью, название для обозначения их безумия» [120]. Безумия, которое подвергает сомнению ценности иной эпохи, иного искусства, иной морали, но в котором, колеблясь, путаясь, странным образом подтачивая друг друга собственной призрачностью, отражаются также и все, даже самые далекие друг от друга, формы человеческого воображения.